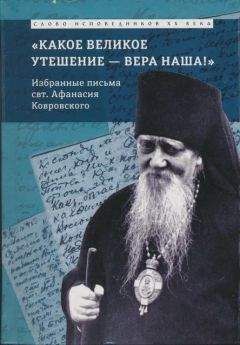Ознакомительная версия.
Н. Бердяев констатировал духовную болезнь XVIII–XIX вв., когда писал, что «для богословов и иерархов Церкви обычно бывала более подозрительна высшая духовная жизнь, чем грехи жизни душевной и телесной. Тут есть какая-то очень тревожная проблема. Церковь прощала грехи плоти, была бесконечно снисходительна к слабостям душевного человека, но была беспощадна к соблазнам духа, к притязаниям духа, к взлетам духа»[29]. Существенным было то, что Бердяев самой направленностью своих обличений отражал очень явную в начале ХХ в. тенденцию – критически воспринимать Русскую Церковь как структуру, связывающую человека и мешающую его духовному развитию.
Флоренский столкнулся с этим сразу же, уже в университетские годы (1900–1904), у самого «истока» своего собственного обращения к религии и Церкви. Но это было не просто соприкосновение, это было достаточно длительное вращение в среде внецерковных мистических исканий, сотрудничество с этой средой, разглядевшей и опознавшей в молодом «мистике» возможное эффективное орудие для грядущей замены Церкви «исторической» церковью «мистической». Но Флоренский, со своей способностью ощущать «за явным… бесконечно большее, сокровенное»[30] и видеть, как он говорил, в нашем мире «внутреннюю игру глубины»[31], заглянул за «толстейшую кору» «тысяч недостатков» и «выдохшихся», как ему казалось, церковных символов. «Для меня, – писал он, – открылась жизнь, быть может чуть бьющая, но жизнь; открылась безусловно святая сердцевина. И тогда я понял, что уже не выйду оттуда, откуда увидел все это… Если я виноват <…> что воспринимаю жизнь и святость за толстой корой грязи (которая для меня, может быть, кажется гораздо толще, чем для других, потому что она мне делает больно), если грешно любить святое, то я действительно виноват перед всеми, кто расходится со мною. Но только могу сказать им: я могу притвориться… но не могу перестать чувствовать то, что чувствую» (из письма к А. Белому по поводу своего расхождения с Мережковскими, после 1-го курса учебы в МДА, июль 1905 г.)[32].
И с самого начала своего пути в богословии и религиозной философии Флоренский намечает программу разрушения «толстой коры»: «Церковь… либо вовсе нелепость, либо она должна вырасти из святого зерна. Я нашел его и буду растить теперь его, доведу до мистерий, но не брошу на пожрание социалистам всех цветов и оттенков»[33]. Он позиционирует себя как решительный противник (если не сказать больше – воинствующий ниспровергатель) плоскостного понимания церковного христианства, отвлеченно-«схоластического» богословия и вероучительных схем, утративших связь с живым духовным опытом. Он думает о мистических восхождениях, осуществляемых именно не вне, а внутри церковной ограды. «Мистическое развитие, – пишет он, – сравню с путем в горы. Выше и выше поднимаешься к небу, но более и более делается опасность слететь в пропасть. На ровном месте нет подъема, но нет и бездны, и подлинные мистические опасности появляются при наличии подъема в выси… Географические карты и планы, составленные людьми, уже восходившими на эти высоты, совершенно необходимы. Это – учение Церкви, догматы, направляющие путь» (запись 27 августа 1905 г., в Оптиной пустыни)[34]. Но, призванная быть «сокращенным путеводителем по вечной жизни»[35], церковная догматика оказалась в Русской Церкви замененной на «догматизм». Это та же совершенно необходимая в данном случае «система понятий и схем»[36], но отвлеченная «от всего живого, от всего интимного, от того, что близко и бесконечно мило, что хватает сердце щемящей тоскою по далям…»[37].
На заседании философского кружка МДА в январе 1906 г. студент 2-го курса Флоренский констатировал, что «…системе вероучения принесен высший ущерб, какой только может быть принесен духовной ценности, – она обесценена для сознания» так, что «единственно нужное кажется современному большинству лишним и ненужным»[38]. И предложенный тогда выход – «насытить богословские схемы психологическим содержанием, чтобы связать их с непосредственно переживаемым…» – стал, по сути, всежизненной программой о. Павла, одной из основ, на которых построены все его религиозно-философские и богословские труды. Догматика должна быть наполнена «живым конкретным содержанием» – личным опытом, выраженным на «всечеловеческом» пространстве: «в аскетических и мистических литературах, в изящной словесности, в изобразительных искусствах и в музыке». Это должен быть «путь синтеза, путь собирания всей полноты духовной жизни», контролируемый Священным Писанием. «Полный пересмотр святоотеческой литературы» заявлен здесь как необходимая составная часть этого процесса[39], и это был тот же призыв вернуться «к Отцам», хотя и без специальных оговорок относительно их особого значения на фоне других «мистиков».
Всю последующую жизнь Флоренский являлся твердым носителем идеи, согласно которой все, что идет с глубокой древности и несет на себе печать «общечеловеческого» («всечеловеческого» – по терминологии доклада 1906 г.) мировоззрения, глубоко подлинно и не может радикально расходиться со святоотеческой традицией. И критерий подлинности заключается в умении не задержаться на «толстой коре», многослойной «грязью» покрывшей изначальное Божие Творение, а проникнуть внутрь, в само мистическое ядро твари. Непосредственное переживание этого безусловно ценного ядра, по убеждению Флоренского, и есть суть подлинного мистического опыта, в котором человек и вся тварь встречаются с Богом.
Мысль о «святом ядре» и наружном «грязевом» покрове, искажающем, а то и вовсе скрывающем истинный лучезарный облик Творения, с самого начала и до конца являлась лейтмотивом всех работ и выступлений о. Павла, в которых он свидетельствовал свой опыт «мистериальности» христианства. Это правда, что «все мы в грехах», – говорил он в студенческой проповеди (1907). «Но мы – как глиняные сосуды, полные сверкающего золота. Сверху – зачерненные и замазанные, а снутри – ослепительно-лучезарные. Таковы все вы, братья». Каждый человек свят «в тайниках души своей»; он «освящен, потому что Господь святит его, непоборимый наружной скверной»[40]. В 1907 г. на страницах издаваемого тогдашним ректором МДА еп. Евдокимом (Мещерским) журнала «Христианин» Флоренский попытался организовать сбор свидетельств того, как переживаются церковные таинства. Целью было показать, что «христианство – не археология, а живая жизнь, вечно развивающаяся в целом организме человечества»; христианство – это религия «силы и духа, о чем менее всего любят говорить наши богословы»[41]. При этом одним из свидетельств было таинственное «раздвоение» участников таинства Исповеди: человек действительно открылся как состоящий из «обычного» человека и своего высшего, «очищенного духовного центра»[42].
Концепция «очищенного духовного центра», или (в терминологии «Столпа») «истинного Я», является одним из самых важных, принципиальных моментов антропологии Флоренского. Начиная с 1916 г. (но главным образом в 1920-х гг.) о. Павел пишет «Воспоминания», в которых дает возможность приблизиться к некоторым тайнам своей личности, познакомиться с характерными чертами своего (условно говоря) «мистического» и духовного опыта и попытаться научиться читать и воспринимать его труды так, как сам он хотел бы быть прочитанным и воспринятым. О. Павел сам открыл внутренние истоки своих убеждений, рассказал об испытанных им внешних влияниях и обозначил те изначальные свои интуиции, из которых в числе прочего сформировалось и его представление о человеке.
По справедливому замечанию игум. Андроника (Трубачева), эти воспоминания выходят далеко за рамки обычной мемуарной прозы и содержат настолько важный философско-богословский материал, что без их учета понимание трудов и самой направленности творчества о. Павла «неизбежно будет ущербным»[43]. При их анализе, конечно, нужно иметь в виду даты соответствующих записей, которые о. Павел всегда старательно проставляет, иногда даже с указанием времени суток. Флоренский описывает свои изначальные интуиции на пороге или за порогом своего 40-летия, уже обладая вполне сформировавшимся мировоззрением. Не может не быть сомнений в том, что воспоминания о самом раннем детстве в таком возрасте имеют в той или иной степени «наведенный» характер, обусловленный всем последующим жизненным опытом. Однако о. Павел настаивал в этом смысле на чистоте реконструкции своих детских восприятий, и это очень важно.
«Мои позднейшие религиозно-философские убеждения, – писал он в 1923 г., – вышли не из философских книг, которых я, за редкими исключениями, читал всегда мало и притом весьма неохотно, а из детских наблюдений»[44]. «Ребенок владеет абсолютно точными метафизическими формулами… Про себя я, по крайней мере, могу сказать, что вся последующая жизнь мне не открыла ничего нового… Все же знание жизни было предобразовано в опыте самом раннем…»[45]. Тогда, по убеждению о. Павла, сложились «первичные интуиции» его души, которые могли лишь быть оформлены соответствующими религиозными или философскими понятиями, но никак не отброшены в ходе научного и духовного образования. «Воистину, – говорит он, – я ничего нового не узнал, а лишь «припомнил», – да, припомнил ту основу своей личности, которая сложилась с самого детства или, правильнее говоря, была исходным зерном всех духовных произрастаний, начиная с первых проблесков сознания»[46]. Данная позиция не просто утверждает необходимость ориентировать мировоззрение по изначальным детским интуициям. Это идущее гораздо дальше требование считать эти интуиции действительным прорывом в реально существующие тайны бытия[47]. Речь, конечно, идет о «припоминании» в платоновском смысле: согласно Платону, научение есть припоминание (см., напр., Федон. 72е–76е; Федр. 249в-с; Филеб. 34в-с; Менон. 81с; Законы V, 732в); научение не может осуществляться иначе как чрез припоминание некогда узнанного[48]. Знание, цитирует Флоренский Платона, – «припоминание мира трансцендентного»[49]. «Мы, – пишет Альбин, – в порядке припоминания мыслим на основе крохотных проблесков, по некоторым отдельным признакам припоминая, о чем давно знаем, но что забыли по воплощении»[50]. Испитая вода из «реки забвения» не действует радикальным образом, поскольку иначе человек не мог бы познавать мир и, главное, самого себя.
Ознакомительная версия.