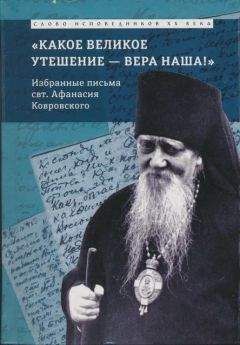Ознакомительная версия.
Говоря о религиозности отца, Флоренский еще раз и особо отмечает необходимость «учитывать ужасное время русской истории – царствование императора Александра II, в котором он провел всю молодость, и ужасную среду, окружавшую его в дни юности и всю последующую жизнь»[62]. Характер того времени и той среды о. Павел знал в том числе и из доставшихся ему многочисленных писем свт. Игнатия Брянчанинова[63], в которых представлена картина почти всеобщего обмирщения так называемых высших, образованных слоев общества: «…общее стремление всех исключительно к одному вещественному, будто бы оно было вечно, – забвение вечного как бы несуществующего»[64], «повсеместное охлаждение к религии, фанатический атеизм…»[65] Непосредственно о времени, на которое пришлись детство и молодость Александра Ивановича (1860-е гг.), свт. Игнатий писал так: «Ныне соблазны до бесконечности умножились, увлечение ими сделалось почти всеобщее, а сопротивления нигде не видно; по этой причине современная юность меньше подвержена осуждению и заслуживает большее сожаление и снисхождение»[66].
Александр Иванович не был грубым материалистом и атеистом[67], но все существующие конкретные формы религии считал весьма примитивными, призванными лишь поддерживать в людях «человечность». Эти «искусственные поддержки», по его мнению, были не нужны человеку развитому и образованному, который может и должен понести «человечность» в ее непосредственном виде. Признавая за христианством некоторую духовную высоту, Александр Иванович вместе с тем чуждался его «претензии» на абсолютность и исключительность. Как более «здравые» он выделял мусульманство и «китаизм» (т. е., очевидно, наиболее распространенную в Китае религию Конфуция). В последнем случае ему импонировала удовлетворенность китайцев «малым и настоящим» и нежелание искать «абсолютную истину»[68].
Выделяя подобные моменты в духовном облике своего отца и списывая их на общий дух времени (1870-е гг.), Флоренский по ходу воспоминаний явно прослеживает и отмечает определенные области мировоззрения, в которых отец вольно или невольно оказал на него влияние. Например, убеждение в том, что «истина недоступна», было, очевидно, воспринято им от отца. Но в поздние гимназические годы к этому добавилось твердое убеждение иного свойства: «невозможно жить без истины». «Эти два равносильных убеждения, – пишет о. Павел, – раздирали душу и ввергали в душевную агонию… Я задыхался от неимения истины… Истина и смысл жизни были для меня… тождественны»[69]. Теме поиска и обретения Абсолютной Истины Флоренский посвятил свою кандидатскую диссертацию, защищенную в МДА (1908), переросшую затем в магистерскую работу (1912) и далее – в «Столп и утверждение Истины» (1914). Абсолютна Истина открылась в духовном опыте Флоренского как единосущие Пресвятой Троицы, и с этим открытием было связано все его дальнейшее твердое стояние в Православной Церкви.
Однако при всем том свое понимание роли и места православия среди других религий о. Павел, как ни странно, фактически возводит к убеждениям Александра Ивановича. Они заключались в том, что «собственно, нет религий, а есть одна Религия. Религия весьма меняет в человечестве свой вид, и весьма неодинакова ценность ее различных обликов. Но основные силы, ее складывающие, сходны»[70]. В такой позиции просматривается, если можно так сказать, фундаментальная идея о невозможности существования ложных религий[71]. Среди религий есть не ложные, а такие, в которых истина раскрыта неполностью; и если Александр Иванович принципиально отказывался искать в религиях наиболее полное явление Абсолютной Истины, считая все верования искусственными и примитивными, то о. Павел, найдя это явление в православной церковности, встал далее на путь собирания крупиц истины со всех остальных религий (а особенно – из связанных с ними «мистических учений»[72]) в единую общую сокровищницу. Это может создавать впечатление справедливости обвинений Флоренского в том, что для него св. Отцы и некоторые языческие мистики имеют равный авторитет. Однако при более близком знакомстве можно видеть, что о. Павел в своих философско-богословских работах не сопоставлял авторитеты, а тех и других оценивал с определенной «третьей» позиции. И позиция эта у него называлась «древность» или «древнейшее, общечеловеческое мировоззрение», наиболее близкое, по его убеждению, к познанию Истины.
Косвенным образом причиной такой идеализации Флоренским глубокой древности, по-видимому, также явилось влияние отца. Для Флоренского древнее сознание – «непосредственное, дорефлективное»[73], характеризующееся представлением о живом, реальном единстве явлений, – противоположно современному «научному» образу мышления. Теперь, утверждал он, видят лишь сходство там, где в древности видели реальные связи бытия[74], реальные элементы бытия теперь заменены понятиями – философскими или научными.
Способность мыслить «не отвлеченными схемами, не значками… не отвлеченными понятиями» о. Павел разглядел у Гете и считал его идеалом исследователя, проникающего в реальность и видящего то, что незримо для других[75]. «Ставя памятник Гете, – говорил Флоренский в одной из лекций, – человечество тем самым скидывает с пьедестала отвлеченное мировоззрение нового времени»[76]. И можно думать, что именно Гете своим «до конца конкретным» мышлением изначально пробудил еще у маленького Павла[77] живой интерес к тому, что он считал сознанием древнего человека. Ведь дело в том, что Иоганном Гете был увлечен Александр Иванович, для которого, по горько-ироничному выражению о. Павла, гетевский «Фауст» заменял Евангелие[78]. Очевидно, что увлечение отца передалось в данном случае к сыну и дало на новой почве вполне определенные новые плоды.
То же самое можно сказать и о другом предмете почитания Александра Ивановича – о книге французского историка Фюстеля де Куланжа «Античный город» (1864; русский перевод – 1867 и 1895), которая (как опять с горькой иронией отмечает Флоренский) была для него «номоканоном». На этот счет о. Павел уже прямо говорит, что отец заставлял его читать «Античный город» в годы учебы в средних классах гимназии. Эту книгу о. Павел называет прекрасной, поскольку она доказывает, что древняя религия вся сводилась к почитанию предков, и «люди имели значение в глазах древности лишь как жрецы восходящей линии своего рода… Глаза античного человека были всецело обращены назад, в прошлое»[79]. И можно только гадать, почему Александр Иванович, сам всецело обращенный в будущее и видящий смысл жизни лишь в семье и детях, особо выделял данный исторический труд. В нашем случае важно, как под невольным влиянием отца его воспринял о. Павел, а именно как обличение (а может быть, и некоторое скрытое самообличение со стороны Александра Ивановича) всей «мистической» неправды отрыва человека от своих предков, «выпадения» из своего рода и забвения своего прошлого.
Для понимания исходных антропологических интуиций о. Павла Флоренского особенно важны те моменты, которые он посчитал нужным отметить в своих детских восприятиях матери. Ольга Павловна, по его словам, была «замкнутая, гордо-застенчивая в проявлении чувств» и занималась более другими, младшими детьми, чем старшим в семье Павлом[80]. С годами ласки и поцелуи со стороны Павла мать встречала все холоднее и смущеннее, из-за чего он чувствовал, что таким проявлением личной любви нарушает какие-то установленные границы. «В ней, – пишет о. Павел, – я не воспринимал лица; она вся окружала наше бытие, всюду чувствовалась и была как-то невидима». Перед матерью чувствовался «священный трепет и молчание, прохлада и робость», не страх, а что-то такое, что нельзя выразить в слове. Такое не-личное отношение Флоренский противопоставляет своей «глубоко-личной» любви к тете Юле, которая «не подавляла своей отрешенностью от мелочей жизни… с ней можно было жить. Матери же надо было поклоняться»[81], хотя она этого вовсе не требовала.
И вот после таких указаний о своей не-личной любви к матери, о невосприятии в ней ее личности, об отсутствии к ней сыновней привязанности Флоренский пишет: «В матери я любил Природу или в Природе – Мать, Naturam naturantem Спинозы», т. е. «Природу творящую» (в отличие от «природы творимой» – natura naturata). «Я знал, что мать очень любит меня; в то же время у меня было всегда чувство таинственного величия ее. И мне казалось, что она же может встать во весь рост и, не заметив меня, – раздавить. Я не боялся этого и не протестовал бы против этого (курсив мой. – Н. П.)»[82].
Ознакомительная версия.