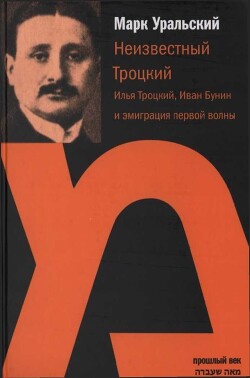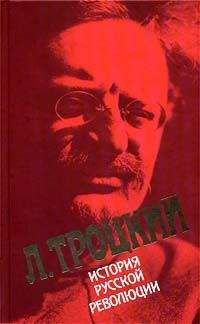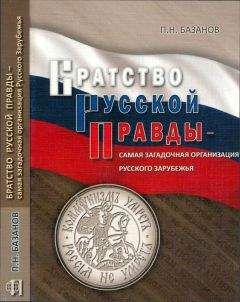Всю свою жизнь, до самых последних дней Илья Троцкий был неутомимым общественником. Он занимался организацией материальной поддержки евреев, пострадавших во время Первой мировой войны, участвовал в акциях помощи жертвам большевицкого голодомора 1920-х, более шестидесяти лет жизни посвятил работе в области еврейского профессионального образования и здравоохранения (ОРТ-ОЗЕ) и, будучи с 1947 г. секретарем нью-йоркского Литфонда, всемерно способствовал выживанию русской эмигрантской культуры. На этом поприще, как свидетельствуют документы, публикуемые в настоящей книге, он вместе с Алдановым и другими друзьями Бунина оказал неоценимую помощь в организации кампании по материальной поддержке больного писателя, оставшегося после войны без средств к существованию.
Активно работал Илья Троцкий и в нью-йоркском «Союзе русских евреев»8, который по части благотворительности помогал всем эмигрантам, невзирая на религиозную принадлежность — при подлинной нужде отказа не было никому.
Как политический деятель И.М. Троцкий до революции примыкал к Народно-социалистической трудовой партии (энесы), а в эмиграции участвовал в деятельности Республиканско-демократического объединения9. Он занимал умеренные социал-демократические позиции и был известной и уважаемой в среде правых социалистов Австрии, Дании и Голландии фигурой.
При его жизнеописании нельзя не коснуться истории революции и Гражданской войны, русской послереволюционной эмиграции, не сказать о духовной атмосфере, в которой эти события вызревали и разразились. После 1917-го «Серебряный век» оказался разорванным на части. Одна из них, «модернистская», до конца 1920-х развивалась в Советской России в русле «Первого русского авангарда», а затем — «социалистического реализма». Другая часть, как «очаг истинно русской культуры», бережно сохранялась в русском Зарубежье, в среде эмиграции первой волны.
Во что вскоре превратилась русская революция, не поймет никто, ее не видевший. Зрелище это было совершенно нестерпимо для всякого, кто не утратил образа и подобия Божия, и из России бежали все имевшие возможность бежать. Бежало и огромное большинство самых видных русских писателей, и прежде всего потому, что в России их ждала или бессмысленная смерть от руки первого встречного злодея, пьяного от разнузданности и безнаказанности, от грабежа, от вина, от крови, от кокаина, или позорное рабское существование во тьме, во вшах, в лохмотьях, среди эпидемий, в холоде, в голоде, в пещерных муках желудка и унизительных заботах только о нем, под вечной угрозой быть выброшенным из своего нищенского угла на улицу, быть посланным на уборку солдатских нечистот в казарму, быть без всякой причины арестованным, избитым, оскорбленным, увидеть свою мать, сестру или жену изнасилованной — и в полном молчании, ибо за малейшее свободное слово в России могут вырезать язык10.
Волна революции вымыла в Зарубежье весь цвет русской литературы и публицистики «Серебряного века».
Среди интеллектуалов первой волны в общем и целом превалировали либерально-демократические умонастроения, выразителем которых были две крупнейшие газеты русского Зарубежья — парижская «Последние новости» и рижская «Сегодня». С ними активно сотрудничал И. Троцкий, здесь же печатались И. Бунин, М. Алданов и другие писатели-эмигранты. На более правых, охранительских позициях стояла парижская газета «Возрождение». В ней после 1926 г. из представителей бунинского окружения публиковали свои произведения только Марк Алданов, Борис Зайцев, Александр Куприн и Николай Рощин.
Другую часть интеллектуальной элиты русской диаспоры — менее многочисленную, но компактную и весьма сплоченную, составляли консерваторы-монархисты и национал-патриоты разных оттенков, опиравшиеся на симпатии «молчаливого большинства» — пассивных, с точки зрения интеллектуальной и общественной активности, эмигрантских масс. В этой среде пропагандировались «Протоколы сионских мудрецов», разрабатывались теории «жидомасонского заговора», процветали антисемитизм, антиэкуменизм, великодержавный русский шовинизм и другие подобного рода «прелести мира сего». У них были свои органы печати, как правило, сугубо публицистические, малотиражные, рассчитанные на узкий круг единомышленников. Беллетристика в изданиях консервативно-монархического толка была представлена слабо, и в целом ничего, заслуживающего внимания с точки зрения высокой литературы, эта среда на свет не произвела.
На правом фланге обретались и «просвещенные консерваторы», как философ Иван Ильин или историк Сергей Ольденбург, дистанцировавшиеся от эксцессов «кондовой» русской духовности и поддерживавшие плодотворный и весьма интересный в историко-культурной ретроспективе диалог со своими оппонентами из либерально-демократического лагеря — см., например, переписку члена ЦК партии кадетов «московского златоуста» Маклакова с известным консерватором-монархистом Шульгиным11.
Обращаясь к ретроспективе литературного наследия русской эмиграции, можно согласиться с мнением одного из друзей И.М. Троцкого — поэта-сатирика Дон Аминадо:
Несмотря на твердо укоренившееся мнение, что дубовый листок, оторвавшийся от ветки родимой, должен непременно засохнуть и превратиться в пыль, равно как обречен на гибель и разложение каждый покинувший родную почву и подпочвенные пласты честный писатель, — кстати сказать, о Тургеневе, написавшем большинство своих произведений в Буживале под Парижем, почему-то забывали, — несмотря на все эти мрачные предпосылки и предсказания, литература в эмиграции расцвела пышным цветом.
«Жизнь Арсеньева», «Митину любовь», «Последнее свиданье» и «Солнечный удар», не говоря уже о целом ряде других книг рассказов, стихов и воспоминаний, Бунин написал на берегу Средиземного моря, в Грассе, в Приморских Альпах, на берегу Атлантического океана, в Париже, а не на Волге, не в Москве, и не в Елецком уезде Орловской губернии.
Куприн написал своих «Юнкеров», «Елань», книгу «Храбрые беглецы», рассказы для детей, не выезжая с улицы Жака Оффенбаха, и, конечно, задолго до того страшного дня, когда бессильного, немощного, полупарализованного, полуживого, и уже бывшего, а не сущего, везли его в отдельном купэ на советскую родину, на подпочвенные пласты, на осиротевшую дачу в Гатчине.
Все вещи Алданова, начиная от «Св. Елены» и «Девятого Термидора» и кончая «Ключом», «Бегством», «Истоками», — блестящий перечень их в несколько строк не уложишь, — задуманы и созданы в эмиграции, заграницей, за рубежом.
Рассказы, романы, повести Бориса Зайцева — «Анна», «Дом в Пасси», его «Тургенев», «Жуковский», — все это плоды трудов и дней невольного и длительного изгнания.
Свою замечательную книгу «После России» Марина Цветаева написала тоже здесь, а не там.
Там была только одиночная камера, и в одиночной камере смерть.
То же самое, и в полной мере, относилось и к Осоргину, и к Адамовичу, и к Ходасевичу, и к Мочульскому, и к многочисленным молодым беллетристам и поэтам, чуть ли возникшим и окрепшим уже в эмиграции.
А об историках, философах, и ученых и говорить не приходится.
Бердяев, Лев Шестов, Ростовцев, Лосский, Степун, — вся эта Большая, а не Малая медведица, расточала свой звездный блеск тоже не на русские, и на иностранные горизонты. И вот оказывалось, что о любви к отечеству и о народной гордости можно было с полным правом декламировать вслух не только на Ленинском шоссе или на площади Урицкого, но и где-то у черта на рогах, на левом берегу Сены, в стареньком помещении Тургеневской библиотеки, неожиданно пополнившейся томами и томами новых изгнанников, на которых, продолжая желтеть от времени, глядели старомодные портреты Герцена и Огарева, не убоявшихся легкокрылого афоризма, что мол на подошвах сапог нельзя унести с собой родину...
Оказалось, что можно, и что история эта, конечно, повторяется12.
Однако помимо творческого потенциала и высоких принципов существовала еще и грубая реальность: литературная среда русского Зарубежья была перенасыщена профессиональными литераторами, и жить на одни гонорары было практически невозможно13, хотя такие журналисты «с именем», как И.М. Троцкий, были востребованы.