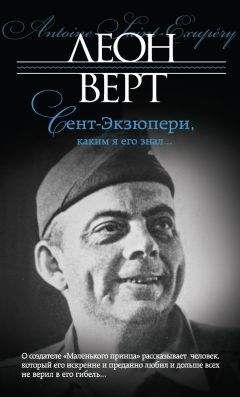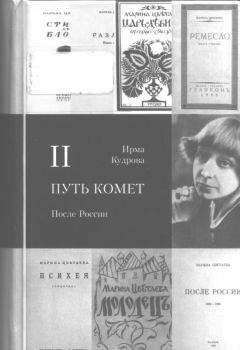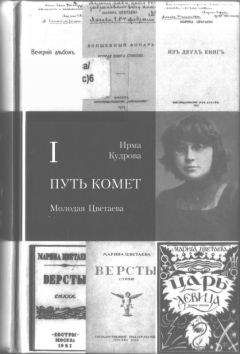Но для сильнейшего стресса хватало и тех обстоятельств, какие встретили Эфрона на родине.
Все девятнадцать лет жизни на чужбине он страстно мечтал о возвращении.
Облик родины в его собственных глазах не раз менялся. В последние же десять лет, незаметно для самого себя, он создал образ такой страдальческой святости, в котором уже совершенно размылись реальные земные черты.
Насколько быстро развеялся теперь в его сознании этот ореол? И успел ли он вообще до конца развеяться за то недолгое время, которое еще оставалось у Эфрона на земле?
К концу тридцать седьмого страна цепенела от страха: в городах и весях шла «великая чистка», железно проводимая недоростком-наркомом с кукольным личиком.
(Открытки с его фотопортретом продавались тогда на всех углах, и я, второклассница, однажды купила такую в газетном киоске — личико понравилось! Моя тетя, приехавшая как раз в эти дни из районного городка под Ленинградом, увидела открытку среди школьных тетрадок и на моих глазах с воплем разорвала ее в клочки. Я не очень поняла, что именно произошло, зато хорошо запомнила. Много позже мне объяснили, что тетя Шура приезжала тогда просить совета и помощи у моего отца, своего брата: только что был арестован ее муж — отец четверых детей.)
Размах арестов должен был бы, кажется, отрезвить самую романтическую голову. Но в одурманенном сознании здравая догадка не задерживается надолго. И кроме того, именно размах репрессий и не был виден!
Это мы, потомки, знаем его в цифрах, фактах и чудовищных подробностях. А тогда оставалось просторное поле для самоутешения, которое всегда изобретательно. «Головотяпство и вредительство!» — эти слова, постоянно звучавшие из репродукторов, годились для обращения в любую сторону. Они должны были гасить все недоумения — и успешно выполняли свою роль, — во всяком случае, в представлении тех, кого еще не коснулась карающая десница.
Подождите, все скоро разъяснится и исправится. Посадили же Ягоду, несмотря на все его могущество, на скамью подсудимых! А XVIII съезд партии осудил уже и «крайности ежовщины»! Конечно, лес рубят — щепки летят. Но без ошибок не свершишь такое великое дело — социализм…
Весной 1938 года в Москве проходил третий и самый крупный политический процесс из тех, что ошеломили весь цивилизованный мир. На скамье подсудимых сидели теперь участники «правотроцкистского блока», и среди других — Николай Иванович Бухарин.
(Всего два года назад Эфрон видел и слышал его в Париже — энергичного, жизнерадостного. Он читал тогда свой доклад в зале Сорбонны по-французски.
Большие выдержки из доклада поместил затем журнальчик «Наш союз», выходивший в Париже под эгидой «Союза возвращения на родину». И Сергей Яковлевич посылал в отель «Лютеция», где остановился Бухарин, своего старого друга и коллегу Николая Андреевича Клепинина — для необходимых согласований…)
Заседания суда проходили в сравнительно небольшом Октябрьском зале Дома Союзов, вмещавшем около трехсот зрителей. Был ли среди них Сергей Эфрон? В принципе — мог бы: сотрудники НКВД и наполняли зал чуть не на две трети. Но если присутствие Эфрона можно только предполагать, то достоверно известно другое: в зале находился давний друг Сергея Яковлевича Илья Эренбург. Он только недавно приехал из Испании в Москву и как корреспондент «Известий» получил доступ в Октябрьский. В какой-то момент он оказался совсем рядом с Бухариным — они были знакомы с давних времен — и не узнал его! Настолько тот изменился.
Много толков вызвал на этом процессе эпизод, когда один из подсудимых — замнаркома иностранных дел Крестинский — во всеуслышанье отрекся от всех показаний, которые он давал на предварительном следствии. Это укоренило зерно сомнения у иных скептиков, давно уже подозревавших инсценированность процессов. Впечатление было сильнейшим. Но эпизод обсуждали с оглядкой — и только в самом узком кругу.
Крайне тревожно должно было прозвучать для Эфрона и его давних сподвижников по секретной службе во Франции упоминание на процессе — в опасном контексте — имени полпреда СССР в Париже Членова. Что это означало для тех, кто имел с ним дело еще совсем недавно?
Друг молодости Сергея Яковлевича, ставший мужем его сестры Веры, Михаил Фельдштейн, юрист по образованию, поначалу пытался адаптировать недавнего эмигранта к советской реальности, снять с его глаз бельма иллюзий.
— Но надо же тогда протестовать, если это правда! — восклицал прекраснодушный Сергей Яковлевич, наслушавшись всяких страстей.
Фельдштейн был арестован немногим позже полугода после приезда Сергея Яковлевича на родину, — летом тридцать восьмого.
Страшных и непонятных фактов было предостаточно. Но тяжелейшими для Эфрона стали те, которые касались вернувшихся из Франции эмигрантов. Каждого из них он знал в лицо. И вот посыпались новости, одна другой чудовищней: арестован, арестована, и этот тоже, и та.
В иных случаях еще можно было предположить какие-нибудь промахи, болтовню, мало ли что. Но что было думать об аресте Дмитрия Петровича Святополк-Мирского, умницы, интеллектуала, сподвижника по «Верстам» и «евразийству»? Или Николая Тимофеевича Романченко? Его Эфрон знал еще по Праге как чистейшей души человека. Усомниться в них было то же, что усомниться в самом себе…
Но исчезали не только бывшие эмигранты.
А что было думать об аресте Мандельштама? Двадцать лет — не такое уж долгое время (когда оно позади!), и в памяти Сергея Яковлевича был жив облик юного кудрявого Осипа, заливавшегося хохотом по любому поводу. В шестнадцатом году, когда он приезжал из Петрограда в Москву, влюбленный в Марину, и дебоширил у них в «обормотнике» на Сивцевом Вражке, — кто мог представить себе?.. Его арестовали (уже во второй раз!) в мае того же тридцать восьмого.
Эфрон приехал на родину тайком, тоже спецрейсом, как и Марина с Муром, и тоже на пароходе, только он носил имя «Андрей Жданов». Приехал в составе группы лиц, как считалось, замешанных в так называемом «деле Рейсса».
Четверых из этой группы (а может быть, ими состав группы и исчерпывался) теперь можно назвать поименно. То были С. Я. Эфрон, Н. А. Клепинин, Е. В. Ларин и П. И. Писарев. Отбор был достаточно случаен, чтобы не сказать странен. Ибо потом, на допросах, Клепинин будет настаивать на том, что ни он, ни Эфрон прямого отношения к «акции» с Рейссом не имели, они исполняли другие задания разведки. Но высокие чиновники из парижского отделения НКВД еще раньше отбыли в Москву. И список высылаемых из Парижа составляли люди, не слишком осведомленные в подробностях.