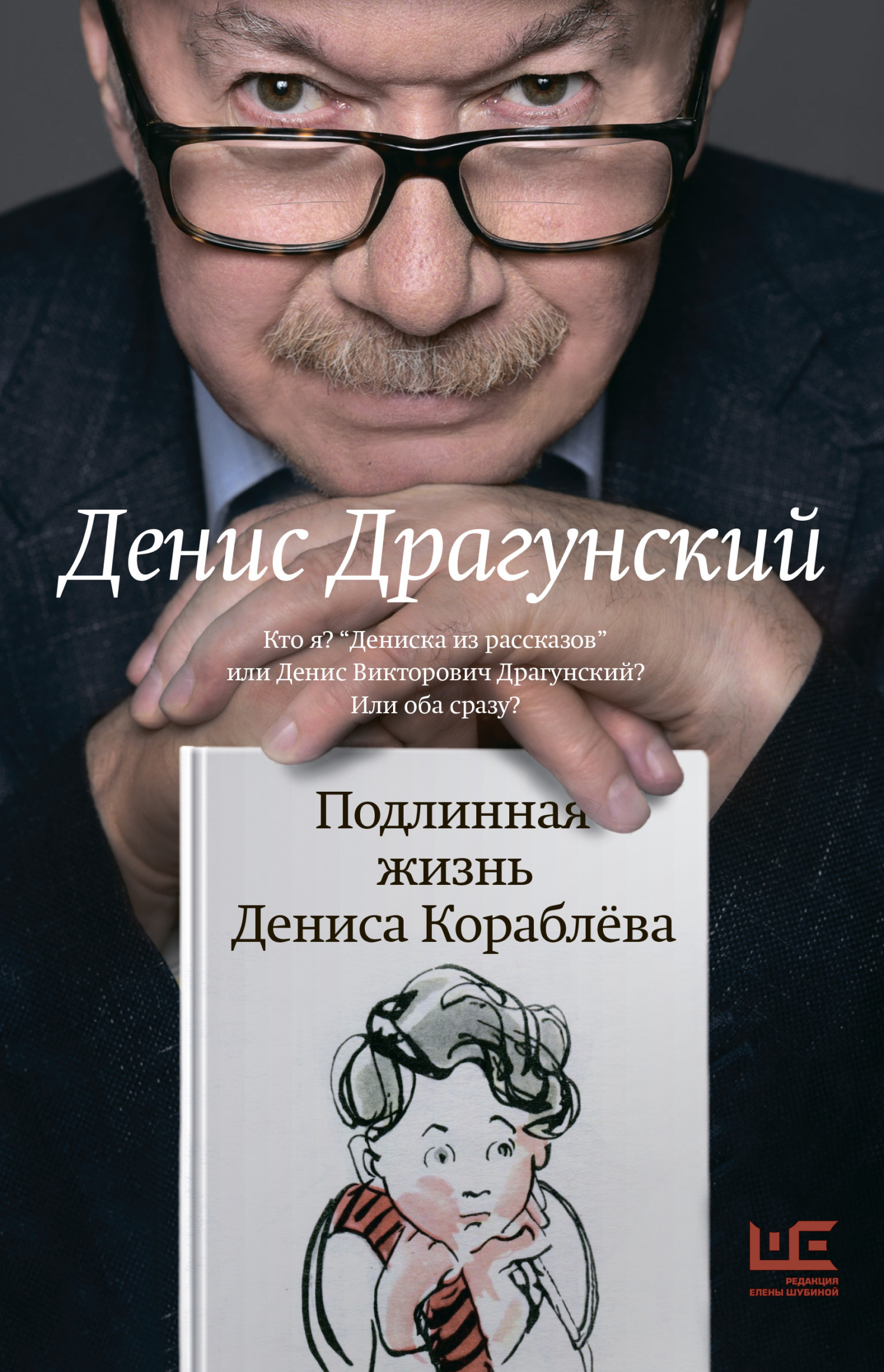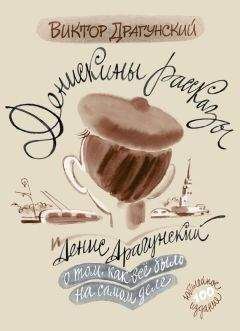переводил, а именно что заботился в самом прямом и непосредственном смысле. И так до самой ее смерти.
Полина-то Михайловна и была связующим звеном между семьями. Она была двоюродной сестрой моей бабушки, папиной мамы. А еще у Полины Михайловны был знаменитый брат, Исаак Михайлович Кауфман, главный библиограф библиотеки имени Ленина, то есть как бы главный библиограф страны, автор толстых словарей и справочников. Когда Исаак Михайлович умер, дядя Миша, его племянник, перевез к себе в Ленинград на дачу всю его библиотеку и весь архив, нескончаемые картотеки, которые были заделом для будущего какого-то словаря. Я как раз тогда заехал к дяде Мише и дивился этим рядам кожаных тисненых переплетов, что расположились на свежеструганных полках, специально сколоченных для такого случая. Дядя Миша сказал мне: «Выбери себе одну-две-три книжки и возьми на память». Смешно, но я так ничего и не смог выбрать. Интересных книжек на разных языках было так много, что выбрать одну, две или даже три не было никакой возможности. Помню, там было красивое издание «Заратустры» Ницше на немецком языке. Зачем это мне, подумал я, только перед девчонками хвастаться; немецкий я знал кое-как. Еще был чудесный четырехтомник Шекспира на английском, в довольно редком издании – «Издательство английских рабочих в СССР». Ведь были и такие; и английские, и американские, и немецкие, и какие угодно рабочие приезжали в Советский Союз помогать строить коммунизм, и вот даже издательство организовали и Шекспира издали. Мне сначала захотелось попросить у дяди Миши этот темно-синий небольшой четырехтомник – там были все пьесы, но напечатанные мелким шрифтом и на тончайшей бумаге. Я даже представил себе, как красиво он встанет на книжную полку в моей комнате и как умные девочки будут говорить: «Ух ты!» – а я буду говорить: «А то!» – но трезвость взяла верх, что, как я понимаю теперь, странно для двадцатилетнего парня. Да, трезвость взяла верх, потому что в тот же миг я понял, что, конечно же, не буду читать этого Шекспира. Ведь я пробовал, еще давно. Шекспир по-английски труден и, если честно, не так и интересен, во всяком случае мне в тот самый момент. А выпрашивать у дяди этакую дорогую игрушку, даже не игрушку, а просто красивую блямбу на книжной полке мне вдруг стало неловко, и я сказал: «Нет, спасибо, что вы. Не надо».
Но пока вернемся на Рождественский бульвар.
Разумеется, я не помню эту комнату. У меня есть только две фотографии. Одна – где папа разговаривает по телефону, телефон эбонитовый настольный, с большим диском, на котором видны цифры и буквы, но разговаривает папа не на самом деле, а позируя перед фотографом. А вторая фотография – где я лежу, голенький пупсик задницей кверху, на фоне книжных полок, а на этих полках помимо книг, знакомых мне уже по взрослой жизни, – например, собрания сочинений Гоголя в узеньких томах в суперобложках как будто из карельской березы, в желто-черных разводах, – стоят еще две фотографии: Михаил Ромм, режиссер, в чьем фильме играл мой папа (его единственная кинороль), и приятный пожилой мужчина с усами, который сосредоточенно раскуривает трубку, но при этом с дружелюбным подмигом смотрит в объектив, то есть Сталин. Такой вот интимный домашний Сталин, под которым жил не только весь советский народ в целом, но и я в частности.
Потом, как я уже сказал, у Миши Аршанского что-то случилось на его военной службе, в результате чего комнату у него отобрали, и мы переехали к бабушке на улицу Чернышевского, раньше и нынче Покровка, дом 29, квартира 20. Но поселиться там было непросто. Дело в том, что в этой квартире когда-то давно жил мой папа. Еще тогда, когда бабушка перебралась в Москву из Гомеля вместе с моим папой, которому было около десяти лет, и своим новым мужем, опереточным артистом Михаилом Рубиным. Бабушка моя была просто учрежденческая секретарша и, наверное, машинистка – у нее была пишущая машинка, и она иногда на ней что-то печатала. Именно в этой комнате родился папин брат, второй бабушкин сын, Лёня.
Бабушкина судьба – это целый роман или даже Шекспир. Тот самый Шекспир, от которого я столь легкомысленно отказался. Может быть, как раз надо было прочитать его эдак в оригинале, со словарем и что-то понять про себя, про бабушку и вообще про жизнь.
Бабушку мою звали Рита Львовна. Ее папа, Лев, или Лейба, Драгунский, был учитель и социал-демократ, известный в своем городе, в Гомеле. Организатор еврейской самообороны во время погромов.
Бабушка рассказывала мне потом, когда я был уже подростком: «Я долго не могла полюбить Чехова. Ты знаешь почему? Из-за его внешности. Его пенсне и бородка приводили меня в бешенство. Я помню, когда я была маленькой девочкой и мы прекрасно жили в нашем домике в Гомеле, примерно раз в полгода наступал ужасный вечер, когда к папе в гости приходили вот такие господа в пенсне на шнурочках и с интеллигентными козлиными бородками, а потом рано утром, а может быть, прямо ночью в дом вламывались жандармы и уводили папу в тюрьму. Сидел он там недолго, по две-три недели. Его быстро выпускали, за него кто-то заступался, может быть кто-то из родителей его учеников, но все равно какое-то время он сидел. И мы с мамой ходили в тюрьму. Я помню, – смеялась бабушка, – хоть и немножко стыдно вспоминать, что мама приносила папе целую корзинку плюшек. И пока они сидели на лавке и разговаривали, я съедала их почти все. Мама ругалась. Папа смеялся. Вообще, я была очень прожорливая, – говорила бабушка. – Меня звали «чугунная баба», потому что я была к тому же еще и толстая. Похудела потом. А в детстве – ой-ой-ой. Помню, как приходил мороженщик, приносил мороженое в каких-то кружечках, – вот не помню, из чего они были сделаны, то ли картонные, то ли не пойми какие, – и к ним полагалась маленькая костяная ложечка бесплатно. Мама просила меня: «Рита, дай мне хоть ложечку попробовать». Потому что папа хоть и был учитель, но денег у нас все равно всегда не хватало. И смешно подумать, что у мамы не было лишнего пятачка купить мороженого себе. Впрочем, не знаю, как там было на самом деле, но она мне говорила: «Рита, дай ложечку, мне тоже хочется». А я говорила: «Отойди, мама, я поем и тебе оставлю». А потом как-то так ложечка за ложечкой, вдруг оказывалось, что там на дне ничего не оставалось, хотя я честно хотела оставить маме хоть четверть, ну хоть на