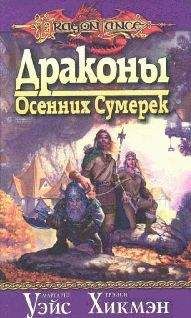- Думаете, Лужская губа будет занята противником раньше, чем придем туда?
- Не шутите. Скоро поймете, о чем я говорю, - негромко сказал Бобков. В случае тревоги ваше место по боевому расписанию - на корме, у четырехствольного зенитного пулемета.
- Но я не умею с ним обращаться.
- Научитесь. У пулемета опытный расчет. Было бы хотение.
Мне показалось, что полковой комиссар преувеличивает опасность, желая подтянуть политработников, подготовить ко всяким неожиданностям. Про себя же я подумал: "Ничего с нами не случится. Мы же идем не в район боевых действий, а в тыл".
Белые ночи еще не кончились. Над морем застыла какая - то белесая мгла. Вокруг - ни звезды, ни огонька. Только на востоке над полоской берегового леса розовел отсвет пожарища.
Вечер был тихим, безветренным, море едва колыхалось за кормой. Старпом вышел проверить, не просвечивают ли задраенные иллюминаторы. У меня еще не было постоянного жилья на "Полярной звезде", я обратился к нему с просьбой поселить в такую каюту, где я мог бы побыть наедине с собой и кое - что записать.
- Есть такая, - ответил тот. - Только не знаю, понравится ли. В ней жили два политрука, они ушли в автономное плаванье. Вернутся не скоро.
- Понравится, - легкомысленно ответил я, - при условии, конечно, что вы больше никого не поселите.
- О, это я вам могу обещать, - заверил старпом со странной готовностью.
Он подозвал дежурившего по кораблю старшину, отдал ему ключ и приказал отвести меня в каюту.
Мы спустились по одному трапу, потом по другому, прошли коридором и очутились в ярко освещенном закутке. Здесь, прислонясь спиной к стенке, на корточках сидел матрос и читал книжку. При нашем появлении он встал и вытянул руки по швам.
- Что это за пост? - спросил я.
- Первой важности, - ответил старшина. - В случае пожара - надо затопить. Внизу пороховой погреб.
"Так вот почему никто не просится в эту каюту", - понял я, но отступать было поздно.
Старшина открыл дверь и зажег свет. Я увидел длинную, со скошенной переборкой каюту. В ней были две койки, расположенные одна над другой, кресло и большой письменный стол, по которому суетливо бегали длинноногие рыжие тараканы.
- Сейчас вам принесут белье, - пообещал старшина и, пожелав спокойного отдыха, ушел.
Сев в кресло, я стал измываться над собой:
- Живешь в отдельной каюте. Люкс получил! Радуйся. Тебе повезло, лучшего гроба не придумаешь. Площадка в жерле вулкана против него - ничто. Там бы ты прежде услышал гул и подземные толчки, а здесь взлетишь вверх тормашками и охнуть не успеешь. Красота!
"Боли не почувствуешь, - утешал я себя. - Осколочное ранение хуже, особенно тяжелое. Калекой останешься. А тут уснул и не проснулся. Собрать тебя воедино будет невозможно".
Трюмный принес белье - наволочку и две простыни. Застелив простыней жесткий, набитый мелкой пробкой матрац, я разделся и улегся на нижней койке.
В каюте с задраенными иллюминаторами было душно. Я долго ворочался, не в силах заснуть.
Мое "оморячивание" началось всего лишь год назад: после войны с белофиннами некоторые ленинградские писатели получили флотские звания и стали проходить военные сборы в частях Балтийского флота. Меня вместе с двумя драматургами, написавшими сценарий фильма "Балтийцы" - Алексеем Зиновьевым и Александром Штейном, - вызвали во второй флотский экипаж, переодели в морскую форму и отправили в плавание на многопалубном учебном судне "Свирь".
Из нас троих знатоком военно-морской службы считался Алексей Зиновьев, служивший в царском флоте матросом. Но он, как мы потом выяснили, все перезабыл и имел серьезнейший недостаток: перед большим начальством вытягивался в струнку и буквально немел. Так что все переговоры приходилось вести не ему - батальонному комиссару, а нам - старшим политрукам.
Явившись на "Свирь" с увесистыми чемоданами, мы сразу же попали в неловкое положение: Зиновьев, чтобы показать морскую лихость, взбежал по трапу, бросил чемодан под ноги, ловко козырнул и протянул руку стоявшему у трапа старшине. Тот, не приняв его руки, сухо козырнул в ответ и, подождав, когда мы поднимемся, спросил:
- Вам к кому, товарищи политработники?
К кому же нам? К командиру корабля, конечно, - решили мы. Но того на корабле не оказалось. Нас провели к вахтенному офицеру.
Старший лейтенант, с повязкой дежурного на рукаве, оказывается, наблюдал за нами.
- Вы впервые на военном корабле? - спросил он.
- Почему вы решили, что впервые? - обиделся Зиновьев.
- Видите ли, на военно-морском флоте первым долгом приветствуют флаг корабля, а не старшину. Вы ведь по званию старший.
Зиновьев начал пространно объясняться, а мы со Штейном сознались, что только недавно надели военно-морскую форму.
В длинном списке дежурный нашел номера наших кают и выдал ключи сопровождающему старшине.
Меня с Зиновьевым поместили в двойной каюте, а Штейна - в соседней.
Когда мы остались втроем, Алексей Зиновьев принялся упрекать нас:
- Зря сознались, что не моряки. У вас же золото на рукавах. Две с половиной нашивки! Большое звание. На флоте не любят людей, которым легко достаются нашивки. За вами будут следить и высмеивать. Не вздумайте только пойти на клотик пить чай. Клотик находится на самой вершине мачты, И помните, что на корабле все называется по - иному. Лестницу, например, здесь зовут трапом, уборную - гальюном, скамейку - банкой, стену - переборкой, пол - палубой, порог - комингсом...
Он бы еще долго хвастался знанием морской терминологии, если это не надоело бы Штейну и тот не без ехидства спросил:
- А ты учитываешь, что устав уже новый? А то научишь нас такому... всех со скандалом спишут с корабля.
В обеденный час в неловком положении очутился Штейн. Придя в кают компанию первым и увидев в фаянсовых мисках аппетитно пахнущий флотский борщ, Александр Петрович поспешил усесться за стол. Для полного удовольствия он вытащил из кармана газету и по гражданской привычке принялся есть и одновременно читать.
Когда мы с Зиновьевым появились в кают - компании, то за спиной Штейна уже толпилось человек двенадцать моряков. Следя в тишине за увлекшимся едой старшим политруком, они жестами приказали нам помалкивать.
Оказывается, по морским традициям за стол садятся только после приглашения старшего командира. Поведение Александра Петровича было нарушением этикета и выдавало его невежество.
Почувствовав неладное, Штейн наконец оторвался от газеты и, обернувшись, увидел перед собой моряков, глядевших на него с осуждением. Лицо Александра Петровича мгновенно сделалось такой же окраски, как борщ. Драматург быстро бросил ложку на стол, вытер салфеткой губы, поднялся и, став позади нас, сделал вид, что так же томится в ожидании, как и другие.