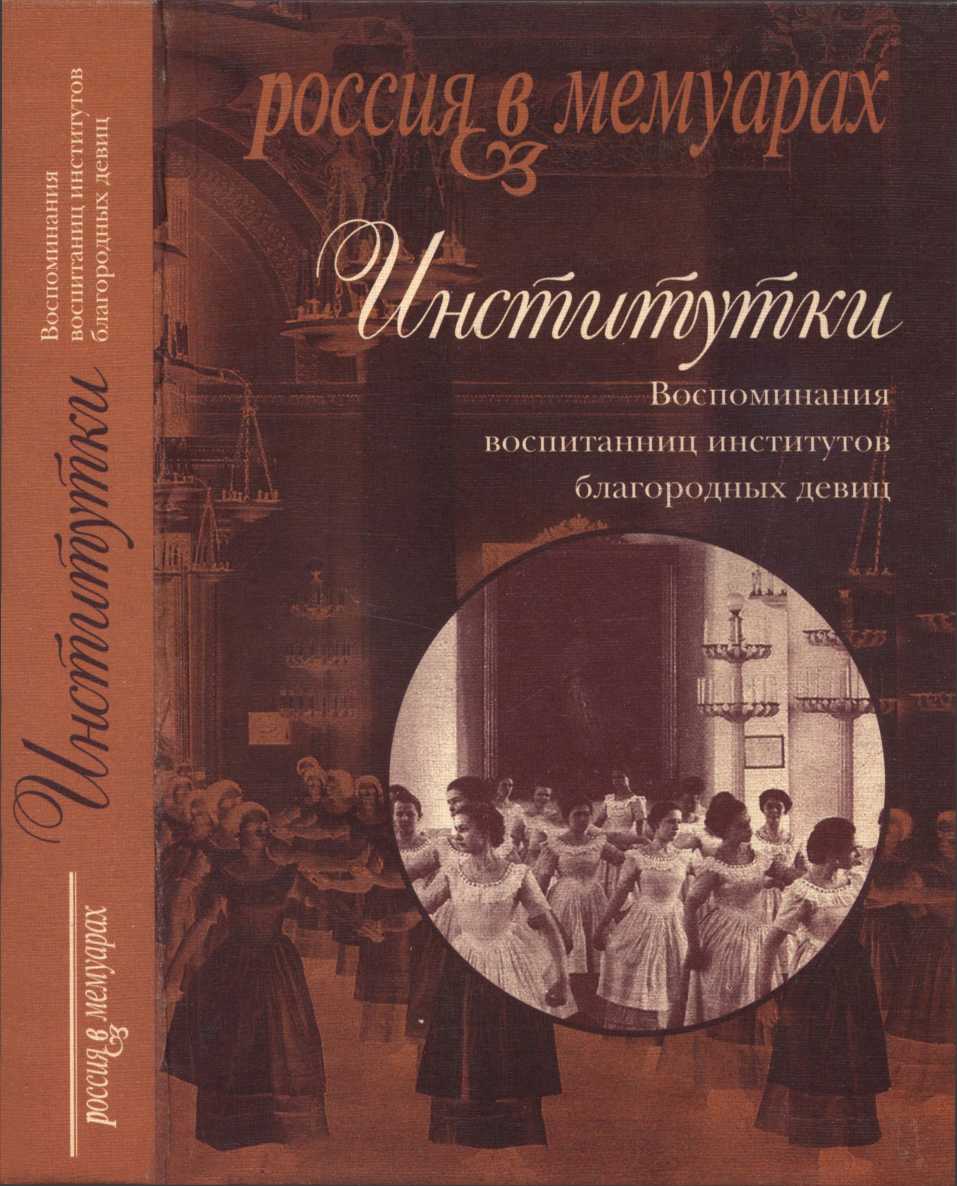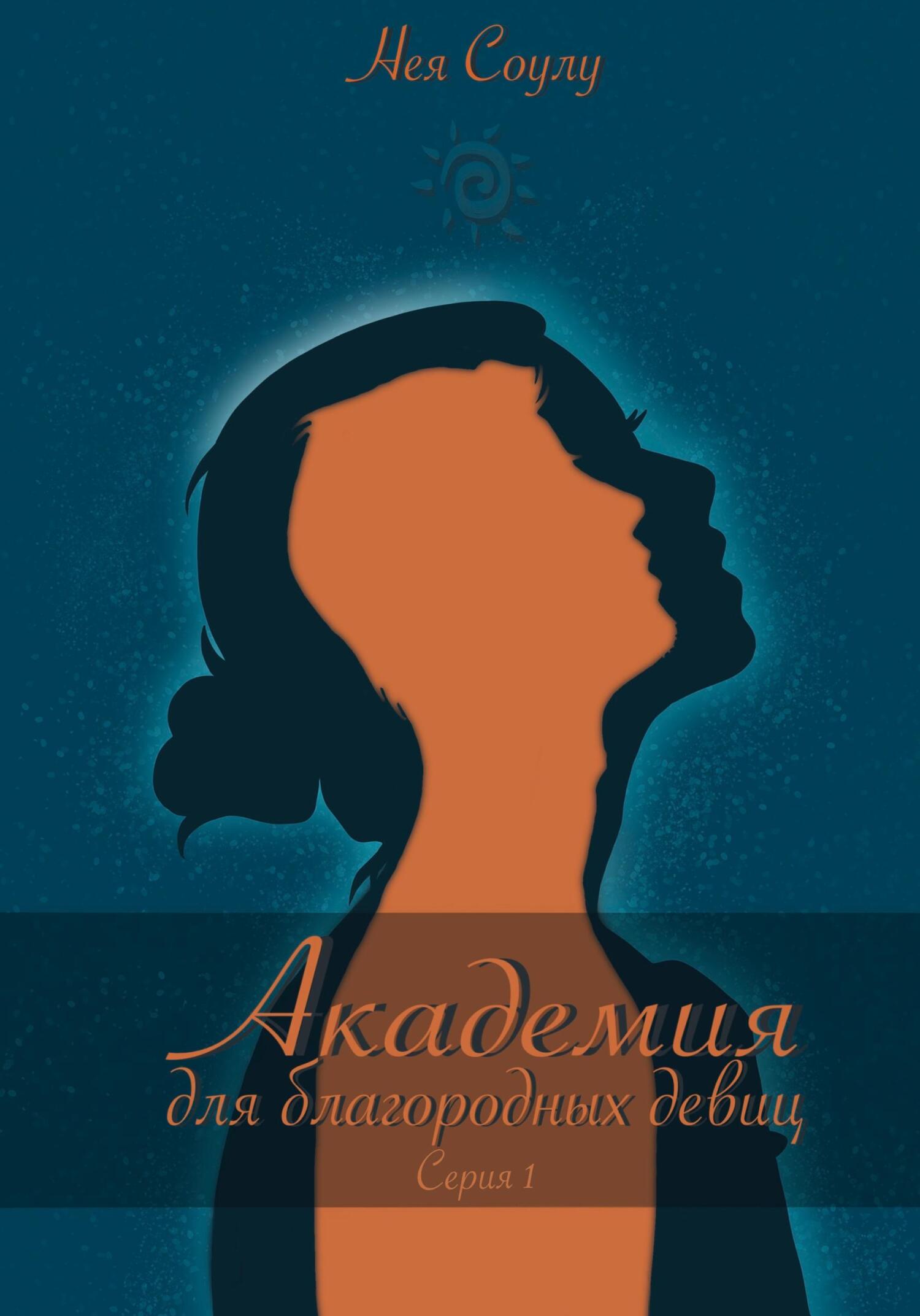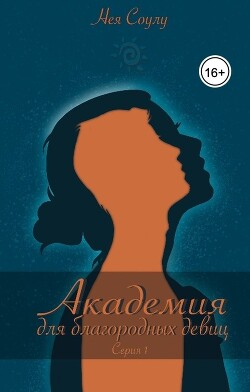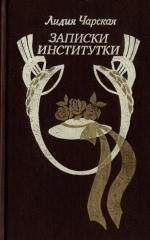всего и вспоминали впоследствии многие его питомицы.
Эта «правильно установленная и до точности рассчитанная машина» [26] требовала от воспитанниц дисциплины и беспрекословного повиновения. Выше всего здесь ценилось полное подчинение правилам и обычаям институтской жизни, на что указывает само определение воспитанниц, отличавшихся послушанием и отменным поведением — «парфетки»/«парфетницы» (от фр. «parfaite» — совершенная). Всякое же нарушение порядка было отступлением от институтского «благонравия» и считалось «дурным поведением». Отсюда и институтский «термин» для шалуний и строптивиц — «мовешки» (от фр. mauvaise — дурная) [27]. С теми, кто совершил какой-либо проступок, особенно не церемонились: окрик, брань, наказание — таков был привычный арсенал средств и методов институтской педагогики. До рукоприкладства, а тем более до сечения воспитанниц, допущенного в женских институтах при Марии Феодоровне [28], дело все же доходило довольно редко. Однако и обычных наказаний, когда нарушительницу позорили перед всем институтом (снимая передник или заменяя его на особый, тиковый; одевая «постыдный капот»; переводя за черный стол в столовой, за которым обедали стоя, а не сидя; или вообще оставляя стоять посреди столовой во время обеда и т. д., и т. п.), вполне хватало для того, чтобы потрясти детскую психику, пристыдить и унизить провинившуюся воспитанницу. Жестокость в обращении с воспитанницами делала некоторые институты похожими на «исправительный приют для малолетних преступников» [29]. Если эти институтки и являлись исключением, то исключением, лишь подтверждавшим общее правило: апология «порядка» как основы, «души всего доброго, всего прекрасного» [30] приводила к тому, что «чинность, безгласие, наружная добропорядочность и повиновение во что бы то ни стало царили в институтах» [31].
Институтский «порядок» должен был обеспечить не только нравственное, но и физическое здоровье воспитанниц. Между тем далеко не все в нем являлось полезным и для их физического здоровья. Весьма неудобной и плохо приспособленной к условиям жизни была, например, одежда институток. Она не защищала от зимнего холода в спальне и в классах, о чем с ужасом вспоминали некоторые мемуаристки много лет спустя после окончания института: «Первое ее впечатление от Смольного — холод. Температура не выше плюс 16 градусов. Холодно везде: в спальнях, в классах, в столовой» [32]. Образ жизни институток вообще трудно назвать здоровым. В течение учебного года воспитанниц почти не выпускали из институтских помещений. Однако и летом, когда они целыми днями находились в институтском саду, им нередко запрещали бегать и играть в подвижные игры, что хоть в какой-то мере компенсировало бы отсутствие физических упражнений. Ведь единственным видом физических упражнений в женских институтах долгое время были танцы, которые императрица Мария Феодоровна считала «презервативом от всех господствующих болезней» [33] и ввела в повседневный обиход своих учреждений. Отсутствие физических упражнений так или иначе сказывалось на здоровье институток. Об этом свидетельствовал и их внешний облик: хрупкость и малокровие являются характерными особенностями образа институтки в русской литературе XIX — начала XX в.
Внешний облик воспитанниц обнаруживал и существенные недостатки институтского питания, которое не удовлетворяло потребностей «вечно голодных институток» [34]. В этих условиях важное значение имели дополнительные источники питания, вроде гостинцев от родственников или лакомств, которые покупались при помощи обслуживающего персонала в обход институтских правил. Однако далеко не все институтки могли таким образом увеличить свой рацион. Многим приходилось голодать, а часть воспитанниц становилась попрошайка-ми-«кусочницами» (от институтского названия гостинцев или лакомств — «кусочки»), что, конечно же, не способствовало их нравственному здоровью (как, впрочем, и частые ссоры по поводу еды: например, из-за «закорявочки» — нижней корки хлеба). Институтский рацион был мал, но и его качество зачастую оставляло желать лучшего. Можно представить, какой скверной едой кормили в Патриотическом институте, если его благонамеренные воспитанницы решились на открытый «бунт» против эконома, усмирять который приезжал сам Николай Павлович [35]. Серьезными недостатками институтского рациона являлись однообразие и отсутствие в его составе некоторых важных элементов. Именно потребность в них, а вовсе не «болезненное расположение организма» или же «извращенный вкус» воспитанниц [36], заставляла институток есть всякую «дрянь». «Эта еда изобретение чисто институтское. <…> Печатная бумага, глина, мел (его тоже толкли и нюхали как табак), уголь и в особенности грифель — все у нас поглощалось. От грифелей, длиною в четверть, к концу месяца после выдачи, часто не оставалось ничего. Лакомки крали у неевших и отламывали углы своих грифельных досок» [37]. Очень часто этот обычай институтской жизни связывался с желанием воспитанниц «казаться интересными» [38], с их стремлением приобрести «необходимые качества молодой девушки» — «бледность и эфирность» [39], с «институтской модой» на «интересную бледность» [40] и т. п. Однако, по объяснению С.Д. Хвощинской, «ели просто для еды, потому что находили вкусным; очень немногие с целью приобрести интересную бледность. Кокетство пришло к нам позднее, едва ли не перед выпуском, а есть мы принялись с первого дня. Страшно вспомнить, какие были между нами зеленые лица. Страшно вспомнить, как умерла одна — ее задушил грифель…» [41] Институтский обычай основывался на физиологических потребностях воспитанниц, но поддерживался и оправдывался усвоенным ими идеалом романтической «неземной красавицы». Малокровные, хрупкие, с тонкой талией, они приводили в восхищение людей 1840-х гг., но раздражали шестидесятников, которые видели в этих «эфирных созданиях» лишь жалких «бледненьких, тоненьких, дохленьких барышень, с синими жилками на лбу, с прозрачной матовой кожей на лице» [42].
Обстановка и порядки казенного «дома» порождали и соответствующую реакцию со стороны воспитанниц. Чем формальнее и суровее был его режим и тяжелее принуждение, тем большую неприязнь у институток вызывали обстоятельства их жизни. Она проявлялась в насмешливо-пренебрежительном отношении к институтским порядкам (ср. слой «сниженной» лексики и фразеологии в институтском «языке»: maman — «маманя» или «мамуха» [43]; приседать в реверансе — «обмакиваться» или «нырять» [44]; причесанные в строгом соответствии с институтскими правилами — «прилизанные, как коровы» [45] и т. п.). Очень были распространены «и насмешки над педагогами и воспитательницами»: «имена и фамилии классных дам перевертывались на все лады. Эпитеты сыпались, и vilaine было самое милостивое» [46]. Есть свидетельства о том, что сочинялись целые стихотворные «сатиры» и «пасквили», посвященные институтскому воспитанию [47]. Дело доходило до открытых «выходок» против классных дам и даже «издевательств» над ними. Во всяком случае, «надуть, обмануть, ловко провести классную даму, устроить ей какую-нибудь каверзу» часто «считалось настоящим геройством» [48]. Оппозиция обстановке и порядкам казенного «дома» создавала институтское «товарищество». Отношениям с начальством противопоставлялись отношения между самими воспитанницами, нормой которых