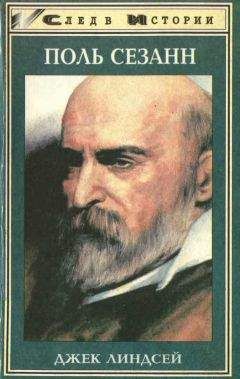Разговор был тонко инструментован: «Слышите, — шептали около, — Бакст выдвинул новые принципы».
И слушающие создают и разносят легенду о новом течении в центре «Мира искусства», о движении к кубизму и так далее.
Бенуа первый не выдерживал этой ерунды.
— Mais voiyons, Бакст, c'est idiot, c'est idiot — и убегал…
К Баксту приближались стильные девицы и юноши.
— Стареет, стареет Александр Николаевич, — шепелявил Бакст и делал сожалительную к своему другу гримасу.
У Бакста в его приемной на пустой стене висела одна вещь — большая фотография с Джорджоне «Спящая Венера». Бакст с любого качества посетителем начинал говорить об этой вещи — посетитель забывал о цели прихода и уходил ни С чем, но сила прониковения хозяина в «женщину» Джорджоне была столь жизненна, что уходящему чудилось, что эта Венера провожает его не только по пяти этажам от квартиры Бакста, но и на извозчике; но достаточно было воздуху освежить очарованные мозги, как ушедший хлопал себя по лбу: чушь какая-то, во чушь-то! Ах, дурак, дурак, да ведь я по делу у Бакста должен был быть.
Насколько у Бенуа, например, с Сомовым были всегда ровные нежные отношения, с Бакстом они были всегда чуть-чуть ироничны, с жальцами на концах фраз.
Вскоре Леон Бакст взметнулся за границу, и тотчас же по его там появлении возле него возникает треск и мировой успех — Бакст одевал Европу плотоядными восточными шелками.
Однажды, сидя вдвоем с Бенуа возле его полного делового беспорядка письменного стола и рассматривая вместе одну из бесчисленных папок с его рисунками, я не удержался:
— Александр Николаевич, ну и что вы всерьез, по-настоящему не займетесь живописью? Ведь у вас же такие богатые искровые начала.
Бенуа ответил:
— Моя судьба делать проекты, и пусть другие осуществляют эти проекты.
Он сказал это спокойно, вдумчиво, но на дне его голоса я уловил грусть, сожаление, как бы чему-то не вполне достоверному отдал он талант своей жизни… Чему же? Декоративизму, этому лимонаду, всегда раздражающему жажду, но никогда эту жажду не утоляющему… А впрочем, может быть, это мне показалось.
Сомов, с кошачьей мягкостью улыбающийся на диване, был воплощенность такта. Каждое слово Константин Андреевич как бы пробно пускал к собеседнику, и только женская бестактность, в каком бы то ни было виде проявленная, выбивала его из колеи:
— Дура, какая дура, — обычно говорил он в таких случаях.
Работал Сомов много и упорно. Что касается техники темперы, он ее поднял на высоту французских мастеров XVIII века. Работа «по-сырому», требующая иконописной точности красочного расплыва, Сомовым доведена до совершенства. Сомов же создал тип рисунков-портретов, слегка расцвеченных на незакрашенном фоне. Робко, как ученик, приступал он всякий раз к натуре. «На каждом рисунке мне приходится заново учиться», — говорил Сомов. И действительно, процесс работы его был сложный и мучительный — и эта печать, к сожалению, оставалась и в законченных его работах, проявляясь и в излишней затушеванности его работ, и в изломах самого сюжета.
Кустодиев — терпелся в «Мире искусства». Странно, любимый москвичами, жаждущими иметь его в своих рядах, Борис Михайлович резко порывает с ними, чтобы войти к петербуржцам после раздела; он один из самых плодовитых участников выставок, — но Ядро молчало перед его картинами. Думаю, это наглядно для характеристики платформы «Мира искусства».
Что есть Кустодиев? Принявший по школе всю беспринципность выродившейся Академии и благодаря фотографичности глаза, умевшего проекционно без видимых ошибок калькировать натуру, Кустодиев становится натуралистом. Скоро безжизненность такого подхода к живописи делается для него очевидной, и он решает, что его спасение в «стиле», и начинает искать этот стиль.
Где, как не в «Мире искусства», найти тонкую выдумку, острое понимание эпох, и Борис Михайлович потянулся к этой культуре, несмотря на отношение к нему носителей этой культуры. Войдя в этот новый для него мир, Кустодиев сразу меняется: он берет более яркие краски, он, дотоле случайно выхватывавший быт, — теперь гутирует по рецепту Ядра его тонкости: жеманность и лубочная чувствительность (от Сомова) сплетаются в нем с пониманием в духе Островского русского уютно-коробочного быта. Он варьирует материал: лепит, пишет темперой, акварелью, оцвечивает контуры своих розовых купчих, — словом, он приобретает внешнюю схожесть с Ядром, но Ядро молчит перед картинами Кустодиева. Вовне растет его популярность; его покупают нарасхват; репинцы гордятся им, только сам Илья Ефимович, случась со мной перед холстом Кустодиева и на мой показ: «Ну, а это?» — очень заволновался и зачастил: «Декорация, декорация, только декорация. Никакой живописи — а-а, а какой был талантливый…»
В данном случае здесь было не без ревности к Кустодиеву, «предавшемуся» «Миру искусства». Борис Михайлович не любил вспоминать о Репине, но когда это случалось, он с горечью заявлял, что Репин никогда и никому ничего не передал путного — захваливал и оставлял учеников на малых достижениях.
Но кого уже прямо ненавидел по Академии Борис Михайлович, — это Чистякова: «Хитренький мужичонко, фразер, ничего не умел сам, жилы выматывал из учеников бабьими заклинаниями», — говорил о Чистякове Кустодиев.
Характерно еще для отношений «Мира искусства» к этом}' мастеру — Серов, проходя мимо одной из скульптур Бориса Михайловича, бросил исподлобья: «Замечательно, даже из бронзы умеет картонку сделать этот Кустодиев». Случившийся возле Бакст продолжал: «Он также замечательно из цвета кгаску делает».
Вот такое отталкивание от себя инородного тела было четким и непримиримым в Ядре «Мира искусства». А с Кустодиевым, мне думается, происходило следующее: вышедший из недр передвижничества, он и не прерывал за всю свою многострадальную жизнь этой линии. Но передвижничество поняло, что даже «обличения и поучения» только в силу их живописных качеств становятся активными — недаром Репин у них был мозолью на глазу за его профессиональные ценности, а такие мастера, как Н. Ге, И. Левитан, — те окончательно и резко сошли с путей «оглупления живописи», и передвижники меняют свое лицо, т. е. они продолжают «рассказывать» в картинах, исходя по-прежнему от «сюжетных умозаключений», но они уже допускают улыбку, умиление, комизм и быт не только как «вшивость русского народа», но и приятности этого быта. Б.М. Кустодиев и приносит с собой эпоху возрождения, феерическую вспышку возможностей в «рассказе» через живопись и становится последним могиканом передвижничества. Вот по этой причине он и не мог быть включен в алтарь Ядра «Мира искусства», знающего «меру вещей» и ограниченность в «слишком выраженном».