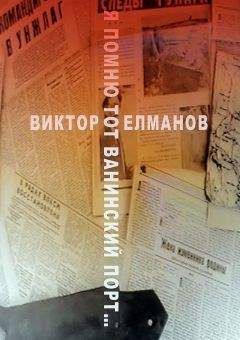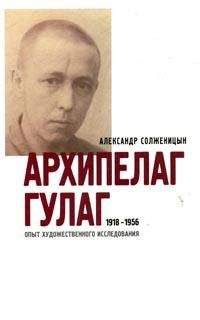Ознакомительная версия.
Ахмед Давудов: – Отца брат хладнокровно, нежелательно меня принял… Через 3—4 дня он заметил, что я в огороде взял 3—4 картошки, есть видимо хотел, под костром жарил эти картошки и поесть себе. Он заметил, до гола раздел меня и понес в длинную крапиву и в крапиву бросил голым меня.
Мария Сафронова.
Голос за кадром:
– Весной 1930 года всю семью Петра Кобылина выгнали из дома. Началась компания по раскулачиванию зажиточных крестьян. С пятью детьми, с женой, которая недавно родила шестого, метался по деревне Петр Кобылин. Никто к себе не пускал.
Мария Сафронова:
– И вот я, как самая младшая из ходячих детей, помню, как мама на руках несла Дашу, а я все забегала вперед и смотрела маме в глаза, потому что видела, что у ней бегут слезы. «Мама, ты почему плачешь?» «Солнышко в глаза…»
Голос за кадром:
– Помнит Мария Петровна, как на пересыльном пункте, когда пошли дожди, детей пустили в дом.
Мария Сафронова:
– Нам досталось место под столом. А у стола были витые ножки. Мне так это нравилось, что у меня такой домик!
Голос за кадром:
– Так она и ночевала в этом «домике» под столом, пока не увезли их на барже в Горки… разумеется, не Ленинские.
Звучит 5 симфония Д. Шостаковича.
Голос за кадром:
– Музыку, которую вы сейчас слышите, написал Дмитрий Шостакович в 37 году. Этот год можно назвать самым кровавым для миллионов замученных, приговоренных к смертной казни, духовно изуродованных. Соловки, Колыма, Беломорканал, Воркута. И так далее, и так далее, и так далее. Унжлаг был тоже в ряду страшных мест, где шло уничтожение народа.
Листается книжка А. Мирека «Записки заключенного». Стоп-кадр на одной из страниц.
Голос за кадром:
– «Когда становилось ясно, что кто-то умирает, к нему бросалось несколько человек из тех, кто, обезумев от всего происходящего, потерял человеческий облик. Они сперва забирали куски хлеба под подушкой (за несколько дней до смерти обычно ощущалась полная атрофия к еде, и хлеб накапливался), затем отбирался мешочек с вещами, а когда начиналась предсмертная агония, с умирающего стаскивали все, вплоть до белья. Жертва еле слышно шептала: „Подождите… подождите чуть-чуть… дайте еще минутку…“ Но для них это был уже неодушевленный предмет».
Автор фильма сидит перед магнитофоном. Продолжает звучать 5 симфония Д. Шостаковича.
Голос за кадром:
– Давит, давит пята кровавого тирана. Идут, идут, подчиняясь дьявольскому маршу, в тюрьмы и лагеря люди. Сотни тысяч, миллионы!
За что такая кара? За разрушенные храмы? За поруганные монастыри? За кровь безвинных, на которой был замешан кровавый террор? За то, что доверились кровавой теории беспощадной классовой борьбы, для которой человек ничто, абстрактная арифметическая единица? За то, что отступились от веры в божественное происхождение и предназначение человека?
За все, за все заплатили самой дорогой ценой – ценой человеческой жизни… И так будет всегда, когда люди затоскуют по сильной руке и порядку. Ибо не может быть сильной руки, которой бы не захотелось показать свою силу на людях, и не может быть порядка, который не захотел бы стать диктатурой…
Автор фильма выключает магнитофон. Фотография одной из сохранившихся могил Унжлага.
Голос за кадром:
– Этот снимок сделан тоже в одном из мест бывших лагерей Унжлага. Ничего не осталось от человека, захороненного в этой могиле, кроме деревянного столбика и номера на дощечке. Ни имени, ни фамилии. Будто и не жил человек, не было у него ни матери, ни отца, ни любимой девушки…
Кадры хроники. Заключенные возвращаются из лагеря, садятся в автобус.
Голос за кадром:
– Впрочем, в такие вот столбики с номерами превращались и многие из тех, кто все же возвращался из лагерей. Одну из таких историй мне рассказали совсем недавно.
Автор идет по улице. Проходит мимо ссохшейся, почерневшей от времени лиственницы.
Голос за кадром:
– Сергея Баскакова арестовали весной 34-го за неделю до свадьбы. Камера. Допросы. Приговор: 15 лет лагерей без права переписки.
Автор фильма идет вдоль кирпичного забора. Верх забора – литая решетка. Автор фильма останавливается, смотрит на бумажный кораблик в луже.
Голос за кадром:
– Но он все же писал письма своей любимой Наденьке на протяжении всех 15 лет заключения. Трудно было найти бумагу, огрызок карандаша и, казалось совсем невозможное, отправить письмо. Маленькая оплошность и можно было получить дополнительный срок. Но он все же рисковал!
Автор фильма идет от светофора на перекрестке улиц. Грязные сугробы. Полурастаявшая ледяная корка на дороге.
Голос за кадром:
– О, эти письма к любимой девушке! Они-то, может, и дали ему силы выжить!..
Макушка березы на фоне синего неба.
Голос за кадром: – Сергей освободился в 49-ом. Две недели добирался он до родного города.
Автор фильма идет по перрону вокзала. Балкон дома сталинской архитектуры.
Голос за кадром:
– Вот и знакомый вокзал, знакомые улицы, дом его любимой девушки.
Встретила Сергея мать Наденьки. Узнала не сразу. А когда узнала, затряслась от слез. Наденька умерла в тот же год, когда его забрали. Из писем, которые он отправил, дошла лишь крохотная часть…
Автор фильма на кладбище. Могила с фотографией девушки на памятнике.
Голос за кадром:
– На кладбище он сидел у могилы Наденьки, отхлебывал из бутылки водку, перечитывал письма и сжигал их.
Автор фильма идет между могил кладбища.
Голос за кадром:
– Уходя с кладбища, он медленно шел среди могил, словно ждал, что его вот-вот кто-то окликнет.
Вечерние лучи солнца, словно паутинки цеплялись за оградки, кресты, ветви деревьев.
Улица города. Вечерние огни в окнах домов.
Голос за кадром:
– На улицах было почти безлюдно. В окнах домов зажигались огни. Откуда-то доносился беззаботный смех, играл аккордеон. Было в этой песне без слов все до боли знакомое: удушающая теснота тюремных камер, холод и грязь лагерных бараков, ругань охранников и лай собак, горечь и отчаяние, что так вот жестоко злой рок распорядился твоей жизнью.
Ознакомительная версия.