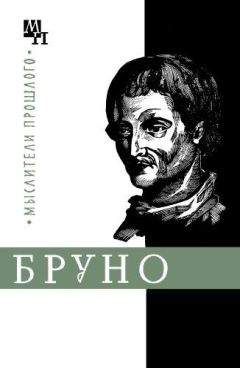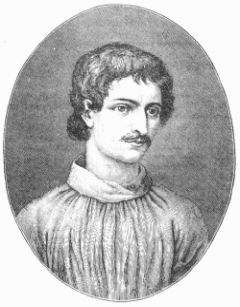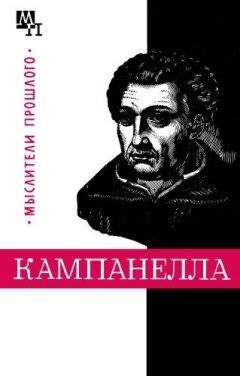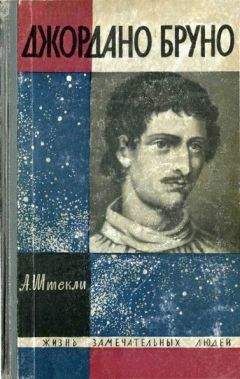От власти религиозных догм и феодальных традиций освобождалась и политика. Под гром артиллерийских выстрелов рушились стены рыцарских замков. В борьбе с остатками феодальной раздробленности развивались национальные монархии, укреплялся абсолютизм. Идеал сильной государственной власти, воплощающей волю господствующего класса, нашел свое выражение в «Государе» Макиавелли.
Все эти грандиозные изменения — в науке и нравственности, в религии и политической жизни — были выражением глубочайших социально-экономических сдвигов, которые происходили в странах Западной Европы на протяжении полутора-двух столетий. На обломках средневекового ремесленного производства возникала раннекапиталистическая мануфактура. Крестьяне, частично или полностью освобожденные от наиболее тяжелых форм феодальной зависимости, насильственно лишались средств производства, пополняя ряды наемных рабочих — предшественников современного пролетариата.
Революционный характер эпохи определялся первыми шагами раннекапиталистического развития. Сквозь сложнейшее переплетение экономических, политических и идейных противоречий XVI столетия пробивали себе дорогу новые формы буржуазных производственных отношений, шедших на смену феодальным порядкам. Буржуазия набирала силы, преодолевая сопротивление прежних эксплуататоров. Нуждаясь в разрушении мешавших ее свободному развитию оков феодализма, она выступала от имени всех, кого тяготил феодальный гнет. Крестьянская война в Германии была неудавшейся буржуазной революцией. Победоносная буржуазная революция в Нидерландах опиралась на выступление трудящихся масс. Вместе с буржуазией появился на исторической сцене и ее противник: наемные рабочие мануфактур вступали в борьбу с новыми угнетателями. Первые стачки и восстания предпролетариата сопровождались зарождением идей утопического коммунизма, смутных мечтаний о справедливом бесклассовом обществе, в котором будет упразднена основа неравенства — частная собственность. Но этот новый конфликт едва обозначился, время его впереди.
А пока что могучие еще силы средневековья пытаются сдержать наступление новой эпохи. И если прислушаться внимательнее, то рядом с голосами мыслителей и мечтателей мы различим и другие подчас заглушающие их голоса:
«Если кто скажет, что человек может спастись своими силами и без данной через Иисуса Христа божественной благодати, да будет предан анафеме… Если кто скажет, что служение обедни в честь святых и молитвы об их заступничестве перед богом — обман, да будет предан анафеме… Если кто скажет, что иерархия в католической церкви учреждена не божественным установлением, да будет предан анафеме».
Это на Тридентском соборе прелаты воинствующей церкви пекутся о единстве христианского мира.
Не остался без покровителей и печатный станок:
«Желая, чтобы дело печатания книг счастливо процветало, — заявлял в 1515 г. папа Лев X, — мы устанавливаем и повелеваем, дабы впредь и на вечные времена никто не смел печатать книги без предварительной их проверки и собственноручного письменного одобрения нашим викарием, епископом или инквизитором». «Постановляем, — вторил ему в 1529 г. император Карл V, — чтобы никто не смел отныне печатать, или переписывать, продавать, покупать, распространять, хранить, держать у себя или получать, обсуждать публично или тайным образом книги, писания и учения еретиков, осужденных церковью». И наконец, тридцать лет спустя папа — теперь уже Павел IV — запретил «переписывать, издавать, печатать, давать под предлогом обмена или под иным каким видом, принимать открыто или тайно, держать у себя или отдавать на хранение книги или писания из тех, что означены в этом индексе святой службы…».
Вот он перед нами — этот первый папский «Индекс (перечень) запрещенных книг»: Данте и Боккаччо, Поджо Браччолини и Лоренцо Валла, Бонавентура Деперье и Франсуа Рабле, Томас Мюнцер и Ульрих фон Гуттен, Корнелий Агриппа Неттесгеймский и Эразм Роттердамский, Ян Гус и Мигель Сервет, Марсилий Падуанский и Никколо Макиавелли — поэты и новеллисты, политические мыслители и реформаторы, философы и ученые, современники и те, кто давно уже умерли или сожжены на кострах инквизиции.
Десять списков запрещенных книг было издано в Англии, четыре — в Нидерландах, свои индексы издавали Кёльн и Париж, Тулуза и Лукка, Лувенский университет и Венецианская синьория. Папский индекс, подтвержденный Тридентским собором, переиздавался в Люттихе и Антверпене, в Мюнхене и Лисабоне. Новое, дополненное издание — индекс 1590 г. — папы Сикста V; еще одно — папы Климента VIII — вышло в 1596 г.
Индекс означал не только запрет и уничтожение внесенных в него изданий. Он налагал оковы на мысль писателя и ученого. Важнейшие достижения человеческого ума оказывались недоступными, традиция прерывалась. Угроза занесения в индекс нависала над еще не написанной, только задуманной книгой. Авторы и читатели не допущенных к печати и запрещенных книг «преодолевали Гутенберга», тайно переписывали книги от руки. И это через сто лет после изобретения печатного станка!
Католики и реформаторы соревновались друг с другом в истреблении свободомыслия. Доносчики не дремали, и часто полемические сочинения оборачивались доносом. Французский гуманист и издатель Этьен Доле был сожжен на костре в 1546 г. Та же судьба постигла великого испанского ученого и философа Мигеля Сервета в Женеве в 1553 г. Не выдержав травли и опасаясь преследований, покончил с собой блестящий новеллист и смелый мыслитель Бонавентура Деперье.
Когда в 1542 г. была учреждена римская инквизиция, костры запылали в вечном городе один за другим. Святой трибунал вызвал столь бешеную ненависть у жителей Рима, что после смерти папы Павла IV они разграбили и сожгли здание инквизиции, избили ее служителей, разрушили монументы, воздвигнутые папе при жизни, и таскали по улицам отбитые головы статуй. Но вскоре был отстроен новый дворец святой службы, и великие инквизиторы, сменяя друг друга на папском престоле, продолжали упорно и неумолимо душить ересь и свободомыслие.
Но интеллектуальная жизнь не прекращалась. Просто бороться стало много труднее. И если Пьетро Помпонацци, живший в начале XVI столетия, несмотря на травлю со стороны духовенства, спокойно дожил до старости и умер в своей Болонье, не прекращая до последних дней университетского преподавания, то Джордано Бруно ожидала иная судьба.
Глубочайший конфликт эпохи — между силами феодальной реакции и новыми потребностями общественного развития — нашел свое выражение и в политике, и в религии, и в литературе и искусстве. Но пожалуй, с наибольшей силой он проявился в философской мысли как непримиримое противоречие между догматами религии и развитием опытного естествознания, между властью тысячелетних предрассудков и требованием свободного изучения природы, между материализмом и богословием.