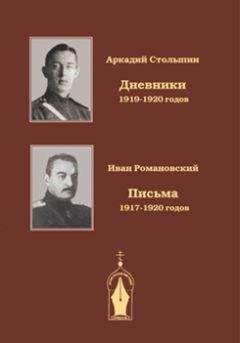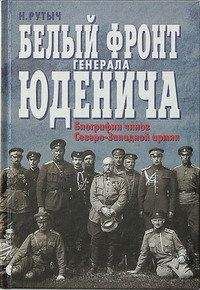Ловким движением он извлек из кармана колоду доисторических карт и, быстро оглянув столпившихся вокруг солдат прекрасными голубыми глазами, начал сдавать.
Кто в картишки не играет,
Тот и счастия не знает,—
сказал Вялов, сдавая мне туза и восьмерку — мы играли в очко. Я поставил пол норвежской кроны и немедленно проиграл: Вялов открыл две десятки. Со следующей сдачей получилось то же самое: я набрал двадцать очков, а Вялов, прикупив к тузу и шестерке короля, забрал у меня следующие полкроны. Вдруг Вялов страшно побледнел и, закрыв дрожащими руками рот, бросился вон из каюты — его одолела морская качка. Ко мне подошел тот самый солдат, которого Вялов называл Федей.
— Вы с Вяловым не играйте, у него все равно никогда не выиграешь, — сказал он.
Потом, помолчав, добавил:
— Мы с Вяловым из одной деревни. Он честный, очень честный, — повторил Федя с ударением на слове очень, — но только в карты вы с ним не играйте.
Я вышел из каюты и поднялся на верхнюю палубу. Ветер шел стеной. Он упирался в грудь, захлестывал рот, прижимал к перилам. Невидимые тучи пролетали по небу, то скрывая, то вновь зажигая звезды. Вверху розоватое сиянье над высокими трубами металось из стороны в сторону. Качка все усиливалась.
Два дня мы шли открытым морем. Два дня наш пароход глухо вздыхал, взбираясь на огромные волны, — шторм не прекращался. Только через двое суток к вечеру, в тумане, показался Нью-Кестльский маяк.
Вход в устье реки, на которой стоит город, был страшным: после воя ветра в снастях, грохота волн, крика чаек, после запаха моря, запаха йода, соли и просмоленных канатов мы попали в преддверие ада. С двух сторон, навалившись на борта парохода, вздымались леса верфей. Ночь уже опустилась, и верфи изнутри освещались дуговыми синими лампами, белели мечами прожекторов, желтели снопами электрических фонарей. Деревянные стропила перекрещивались, оплетались в узлы, создавая впечатление огромной паутины, дрожавшей от грохота и железного лязга, наполнявших воздух. Тысячепудовые молоты обрушивались на невидимые наковальни, рвались из-под точильных камней стремительные струи огненных звезд, оглушительно трещали клепальные машины, гулкие трюмы строящихся кораблей придавали звукам такую густоту, что минутами казался видимым весь этот колеблющийся, дышащий, бьющий, как ветер в лицо, неудержимый грохот. И потом всю ночь — нас оставили спать на пароходе — преследовал меня, врываясь в каюту сквозь плотно задраенный иллюминатор, визг сотен верфей, рожавших тысячетонные пароходы.
На другой день — унылое небо, угольная пыль, версты рабочих домиков, прилипших к железнодорожной насыпи, потом с мучительной тщательностью возделанные поля средней Англии, — наши солдаты только вздыхали: вот это работа, не то что у нас, — и, наконец, знаменитый лондонский туман. Вместе с капитаном Ратушей и Вяловым, всю дорогу не раскрывавшим рта из презрительного уважения к офицеру, мы прошли с одного вокзала на другой, пересекли Темзу, — Темза тоже плыла в тумане, и если бы не разноцветные огни буксирных пароходов, то мы так и не заметили бы, что идем по мосту. Потом опять поезд, пролетевшим с невероятной быстротой сквозь туман и ночь до Саутгемптона, стремительная посадка на пароход, который тут же, едва мы успели ступить на палубу, отошел в Гавр.
Было уже поздно — первый час ночи. Плотный туман покрывал Ламанш, и с верхней палубы пароход был похож на широкий плот — и корма, и нос исчезали во мгле. Над горизонтом всплыла невидимая луна, напоившая туман серебряным сияньем. Мы медленно двигались в этой сияющей и вместе с тем плотной, как облако, массе дымного света. На нашем пароходе зазвонил колокол. Медленные медные удары, не разлетаясь, падали и умирали у наших ног. Вскоре сбоку нам ответил еле слышный колокол встречного судна, затем другой, ближе и отчетливее. Третий зазвонил легкими, поспешными ударами, захлебываясь и волнуясь. Через несколько минут весь насыщенный серебряным сияньем туман гудел от колоколов — тяжело ахали океанские пакетботы, вразброд бились колокола купцов, перезванивались колокольчики буксиров, изредка прорывался вой сирен, заглушавший звяканье бакенов, бестолково качавшихся на мертвой зыби невидимого моря, — все это было похоже на неожиданную пасхальную ночь. Иногда звуки учащались, и чудилось, что вот-вот сквозь бархатное сиянье у самого борта вырастет тень встречного корабля. Но звон колокола, поравнявшись с нами, начинал таять в тумане, и мы вдруг попадали в полосу тревожного молчанья. Все глуше и реже доносились встречные колокола, и мы наконец вышли в открытое море, встретившее нас широкой зыбью. Волна шла в три четверти, и наш пароход начал бестолково раскачиваться. Туман стал еще плотнее, все по-прежнему не утрачивая своей серебряной яркости. Вялов, как только появились первые признаки качки, поспешно скрылся в каюту, где капитан Ратуша уже заканчивал второй роббер. На минуту на палубу вырвался его искаженный туманом голос, как будто он говорил сквозь пушистые усы:
— Я же вам говорил, фон Шатт, пять пик, а вы ходите с треф. Учиться надо, молодой человек.
Несмотря на то, что я не слышал ответа фон Шатта, я ясно представил себе его гнилозубый рот, сладкую улыбку, растянувшую узкие губы. Дверь закрылась, легкий ледяной ветерок поднялся с севера, я остался на палубе один.
На другой день в Париже — мы осматривали город всего несколько часов — меня неудержимо клонило ко сну. Рядом со мною в такси сидел фон Шатт и читал стихи Игоря Северянина. Капитан Ратуша, поместившийся рядом с шофером такси, время от времени кричал нам:
— Глядите, да глядите же — Лувр!
Увидев на площади Нотр-Дам памятник Карлу Великому, он вылез из такси, долго искал несуществующую надпись и успокоился только после того, как фон Шатт убедил его, что это Людовик Святой. Перед Эйфелевой башней мы проторчали около получаса, капитан Ратуша и фон Шатт никак не могли договориться: одному нравилась башня, другому — Трокадеро. Я совсем заснул, — оказывалась бессонная ночь, проведенная на палубе парохода.
С тех пор и осталось у меня — как только увижу Эйфеля, меня сразу клонит ко сну.
В тот вечер с Лионского вокзала мы уехали в Оранж, где уже была размещена в ожидании отправки к Врангелю партия солдат, уехавшая из Финляндии в начале октября. В большом зеркальном окне проплыли и исчезли станционные огни, дробившиеся в мелких каплях дождя. Некоторое время мелькали тусклые фонари пригородных пустынных улиц, загорались и потухали черные лужи. Когда парижские пригороды ушли в темноту, в окне, исчерченном косыми струями дождя, отразилась рябая внутренность вагона: лучистый ореол вокруг электрической лампочки, багажные полки, заваленные чемоданами, Вялов, игравший в очко сам с собою.