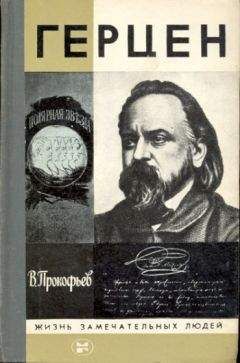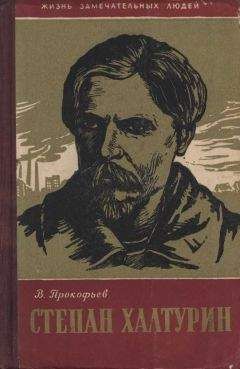Иван Алексеевич благоволил к Марии Каспаровне, и она, говоря обо всех тяжелых для окружающих свойствах характера отца Герцена, отмечает и то, что «он не был злым человеком». Но его «длинные нотации», «тяжеловесные выражения» могли хоть кого довести до потери власти над собой. Превыше всего Иван Алексеевич ставил внешние приличия. Вольтерьянец по воспитанию, по духу, он неукоснительно требовал от домашних в положенные дни посещать церковь. Но сам «по болезни» из комнат не выходил.
Николай Огарев, ставший вскоре «неизменным другом» Герцена и выросший примерно в той же обстановке, в автобиографическом сочинении «Моя исповедь» дает точное определение такого семейного деспотизма: «Может, семейный деспотизм просто в нравах людей его (отца Огарева. — В.П.) века в России. Может, он у них являлся в той же мере, в какой они в другую сторону, на службе перед начальством, перед лицом, которое было больше их барин, подчинялись подобострастно… Подчиняясь удушливой атмосфере сверху, они думали, что надо вносить духоту в дом свой, и в доме царствовала тяжеловесная скука, а жизнь развивалась украдкой».
Иное дело мать — Генриетта Луиза Гааг, а по-русски просто Луиза Ивановна. Она родилась в Штутгарте в 1795 году. Отец ее — мелкий служащий, мать — из семьи простого ремесленника. Отец умер в 1805 году. В доме, где трое детей и мать, оставшиеся почти без средств, жизнь была нерадостной. Луиза убежала в русское консульство, а затем уехала в Россию с человеком почти на 30 лет старше ее. История эта, конечно, романтическая, с переодеваниями в мужское платье, но Герцен не любил о ней вспоминать.
Иван Алексеевич по-своему был привязан к Луизе Ивановне, но не венчался с ней, как не венчался и с матерью старшего сына — Егора. Видно, это был заурядный случай в помещичьем быту. Ведь и у Льва Алексеевича был сын, но не было жены, а у Александра Алексеевича была куча детей, и только под конец жизни он оформил брак с матерью сына Алексея — «Химика», и то затем только, чтобы братья не разделили его наследства. Но Шушка был любимец отца. Пассек говорит даже о «безмерной любви к нему Ивана Алексеевича». Безмерно любимого Шушку нарекли Герценом, «подразумевая, что он дитя сердца, и желая этим ознаменовать свою любовь к новорожденному», уверяет Пассек. Но и Егор Иванович тоже носил фамилию Герцен, а он не был любимцем отца, относившегося к нему «больше чем холодно». Шушка официально, для посторонних, числился «воспитанником».
Луиза Ивановна, по свидетельству Марии Каспаровны Рейхель, жила в большой зависимости от капризов Ивана Алексеевича. Она не могла по своему усмотрению выбирать себе знакомых, и их у нее почти не было. Даже поездки за город или, что реже, в театр Луиза Ивановна старалась скрыть от Ивана Алексеевича. «Слабая натура», «женщина чрезвычайно добрая, но без твердой воли», говорит Герцен о матери. Доброту Луизы Ивановны, как главное свойство ее характера, отмечают все, кто с ней сталкивался. Но эта доброта несла в себе огромный заряд выдержки, что позволяло Луизе Ивановне не без успеха заступаться за дворовых людей, она опекала и Егора. Луиза Ивановна научилась говорить по-русски, но писала только по-немецки и то с ошибками. Зато Шушка с малых лет знал язык матери.
Герцен в «Былом и думах» говорит, что Луиза Ивановна, может быть, сама того не сознавая, «заразила» сына и физическим и нравственным здоровьем. Она была лишена причуд и предрассудков Ивана Алексеевича. Татьяна Пассек свидетельствует, что в противоположность Ивану Алексеевичу и Сенатору, «на все руки» баловавшим маленького Сашку, Луиза Ивановна была к нему требовательна и не поощряла капризов. На чуткого от природы ребенка доброта и гуманность матери, оставшейся отзывчивой и справедливой, несмотря «на эгоистическую, полную деспотизма среду», в которой они жили, «сказались благотворно».
Дети всегда дети, в какой бы семье они ни родились — в боярских чертогах или в похилившейся избе. В барских комнатах заливистый смех кажется даже более естественным, в избе дети рано познают нужду, неволю, и им уже не до смеха. Но в доме Ивана Алексеевича громко смеяться считалось неприличным. Можно было улыбаться. Сам Яковлев всегда насмешничал, но никогда не смеялся. Сына своего, Александра, Иван Алексеевич хотя и «любил безмерно», но мера была — сын должен оставаться почтительным, послушным, вести себя строго в рамках этикета. И не дай бог, если шаловливому, пылкому, непоседливому мальчишке захочется по-детски пооткровенничать — немедля детская шалость, взволнованная речь прерывались холодным поучением. В раннем детстве эти нотации порождали страх, позже — возмущение.
Герцен не стал сухарем, рабом этикета, а вот Егор Иванович был сломлен отцом. «Внешняя покорность, внутренний бунт и утайка мысли, чувства, поступка, — вот путь, по которому прошло детство, отрочество, даже юность». Это слова Николая Огарева, это его приговор своему детству. Но они целиком применимы и к Герцену.
«Корчевская кузина» сохранила для нас портрет и чутко схваченные черты характера расстающегося с детством Герцена. «Это был ребенок худой, бледный, с редкими, длинными белокурыми волосами, с большими темно-серыми глазами, в которых порой блестели искры и рано засветилась мысль. Невзирая на его чрезмерную живость, он редко улыбался, шалил, ломал, шумел серьезно, как бы делая дело. Часто, бросивши игрушки, он останавливал взор на одном предмете и как бы вдумывался во что-то. Чувствуя нерасположение к себе родных со стороны отца своего, несмотря на их видимое внимание, он и сам их не любил и старался избегать их присутствия». «Все видели в Шушке только баловня, — пишет та же Пассек, — из которого не будет никакого толка, но никто не умел из-за баловства рассмотреть, сколько ума, добродушного юмора и нежности было в этом ребенке. Никто не обратил внимания на врожденные ему чувства деликатности и человечности, которые, невзирая на эгоистическую, полную деспотизма среду, в которой он рос и развивался и в которой мог быть первым деспотом, были в нем так сильны, что он рано почувствовал, а вскоре и понял все отталкивающее окружавшего его мира, сочувствовал всему угнетенному, до слез возмущался несправедливостью, постоянно нуждался в сердечном привете и страстно, беззаветно отдавался чувству дружбы и любви…»
По обычаю, бытовавшему в богатых дворянских семьях, у подрастающего «барчонка» не было недостатка в мамушках, нянюшках, гувернерах и гувернантках, домашних учителях. В первой четверти XIX века преподавание во вновь открывшихся по закону 1803 года гимназиях только начинало налаживаться. Случайные учителя, отсутствие единых учебников, многопредметность не способствовали тому, чтобы дворяне помещали своих недорослей в эти учебные заведения. Домашнее образование стало основной формой получения знаний.