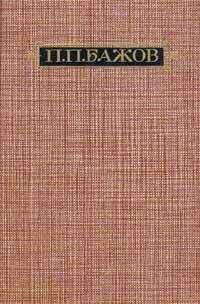Может быть, это мое невежество, но мне почему-то сдается, что смех молодого Чехова, его национальные особенности до сих пор остаются белым пятном на литературоведческой карте.
У Чехова, этого веселого мастера «со смехом редьку тереть», представители моего поколения, конечно, все учились многому.
Меня больше всего поражало чеховское уменье сгустить типическое до одной клички.
Протоиерей Змиежалов, дьячок Вонмигласов, акцизник Почечуев, корреспондент Оптимахов — все это для людей нашего поколения уже портреты. Знаешь, что это сделано. Для корреспондента нарочито придумана фамилия, сплав из латинского слова optime и русского — махать, для акцизника подобрана из старого медицинского учебника, где геморой назывался почечуем (у литературоведов и бухгалтеров начинается раньше, чем у представителей других профессий). Фамилии Змиежалов и Вонмигласов откровенно шаржированы, но когда ты знаешь о «жале змия» в соответствующем контексте и когда ты слыхал уныло-ленивую голосянку «вонми гласу моленья моего», тебе кажется это шаржирование тем сгустком обобщения, дальше которого итти невозможно.
А чеховское искусство дать характеристику одной фразой!
— Барышня робко замерсикала и вышла.
— Александр Иванович Египетский! Один костюм сто рублей стоит.
Ведь ты видишь и эту барышню, и этого египетского болванчика вплоть до его манеры носить свой костюм, такой ослепительный для уездного фельдшера.
И вместе с тем какое чувство меры. Помещик Египетский! Как будто вовсе похоже на правду, и в то же время смешно.
Чехов последних лет никогда не заслонит в моем сознании молодого Чехова, когда он легко и свободно, блестя молодыми глазами, плыл по безграничному простору великой реки. И всем было ясно, что и река русская и пловец русский. Он не боится ни омутов, ни водоворотов родной реки. Его смех нашему поколению казался залогом победы над всеми трудностями, ибо побеждает не тот, кто уныло запоет: «Тарарабумбия, сижу на тумбе я», и не тот, кто тешит себя будущим «небом в алмазах», а только тот, кто умеет смеяться над самым отвратительным и страшным.
Высокопарно вышло? Ничего не поделаешь. Не то что в пятьдесят, а и в сто лет чеховской простоте не научишься. Сказывается учительская привычка к строго грамматическому построению фразы. Налипло немало и от газетного трафарета. А Чехов ведь от всего этого был свободен. Хотя, может быть, и у него все эти Вонмигласовы и Оптимаховы, мерсикающие барышни и помещики египетские не всегда с лету приходили, а в результате большого отбора. Но ведь этого нам не видно. Видна лишь изумительная легкость и простота.
Вот видите, какой я добродетельный: столько написал, что читать надоело, а и вопроса такого не было. Только не воображайте, пожалуйста, что это сделано бескорыстно. Вот слушайте — Вы обязаны всеми имеющимися у вас средствами добыть и переслать, — да! И переслать! — мне издающееся Гослитом собрание сочинений А. П. Чехова.
А если не согласны, так забудьте все, что здесь написано о Чехове. Легок язык да твердо слово. Будет так, будет так, будет так!
После такого заклятия, переходим к основному, но в более коротких словах.
Ваш чудаковатый объект продолжает, как видите, настаивать, что главное все-таки не в генеалогии и литераторе, а в жизненном пути, в характеристике той общественной группы, под влиянием которой формируется человек, среди которой приходится ему на том или другом положении жить и работать. Даже по кусочкам этого письма вы могли убедиться, что бурсацкая жизнь не могла пройти бесследно. А восемнадцать лет учительской работы — это как? Шуточка? Помимо протчего восемнадцать летних просторных вакатов. Правда, часть из них потрачена на театрализованную природу. Надо же было посмотреть море, дымку южных гор, мертвое дерево кипарис и прочее, что полагается. Только это все же не сильно затянулось. Гораздо больше скитался по Уралу и не совсем бесцельно. Помните, рассказывал о побасках? Ведь шесть полных тетрадей этих узколокализованных присловий. И сделано было вполне основательно, с полной паспортизацией: где, когда записано, от кого слышал. Это вам не воспроизведение слышанного по памяти, а настоящий научный документ. И хоть тетради пропали, разве от этой работы чего-нибудь не осталось? Да я вот еще и сейчас помню:
«У людей канительно, а у нас просто».
«У них пашут да боронят, сеют да жнут, молотят да веют, а у нас снимай штаны, полезай в воду и тащи полным кулем».
Или вот из записей о чусовских камнях-бойцах:
«Честно живем, а от Разбойника кормимся».
«Печку не топим, а тепло она дает» (бойцы Разбойник и Печка).
Знаю, что вам эти мои фольклорные похождения не совсем по душе, но наука есть наука. Она требует строгого подхода к фактам.
Детали этих фольклорных хождений вам, конечно, знать неоткуда, так как ваш объект в те аркадские времена не знал еще запаха свежеотпечатанного листа. Другое дело с полосой гражданской войны. Ведь вы смотрели тут целых три книжечки. Каковы бы они ни были, там тоже можно кое-что почерпнуть об авторе и той среде, в какой ему приходилось работать. В высокой степени не важно, кем и когда он в то время был. На этот вопрос даже отвечать не буду. Это анкета. Если ответить подробно — книга, даже не одна. Основное вам известно — политработник тех дней. Преимущественно редактор фронтовой и ревкомовской печати. То и другое предполагает большое общение с массами и крайнюю пестроту вопросов. Это было одинаково и для фронтовой обстановки и для первых месяцев «ставления власти» и потом, когда редактировал газету «Красный путь» в Камышлове, — уже в 1921/1922 году. Особенно же мне кажется важен период работы в «Крестьянской газете» (потом она называлась «Колхозный путь») с 1923 по 1930 год. Там мне приходилось заведовать отделом крестьянских писем. Об этом вы знаете, но, по-моему, настоящим образом не представляете. Поток писем тогда мог измеряться тоннами, а диапазон — от «терпения козы» (целую зиму прожила зарытой в стог сена) до международных проблем в понимании деревенского малограмотного человека. Какие ситуации, сколько материала для самых неожиданных поворотов, а язык! О! Это то самое, что только в молодости присниться может. Я уже об этом писал восторженную страницу в «Краеведческих истоках», да разве это выразишь. Каким надо быть сухарем и чурбаном, чтоб не испытать воздействия этой первозданной красоты. Да посадите на это дело на целых семь лет человека чеховского дарования, что бы он сделал! Без длинных поездок, которые Чехов, по свидетельству Н. Д. Телешова, обычно рекомендовал писателям да и сам не чуждался (что может быть дальше Сахалина?).