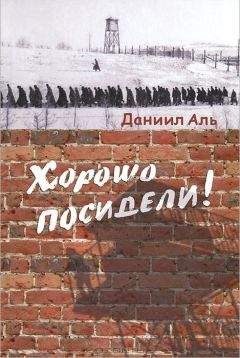— Пригласим и кого-нибудь из ваших сотрудников по Публичной библиотеке, — продолжал Козырев. — Пусть полюбуются на вас и расскажут другим, какой вы фрукт.
— Что ж, эти понятые смогут услышать и рассказать только одно: что я не отказываюсь давать показания, а только прошу разрешить мне дать их собственноручно по одному единственному вопросу.
— По одному единственному? — тотчас, как бы ловя меня на слове, переспросил Козырев.
— По одному единственному.
— И тогда больше подобных фокусов не будет?
— Не будет.
— Сделаем так. — В голосе Козырева мне почудились нотки облегчения. — Собственноручных показаний мы вам не разрешим: нет оснований делать для вас исключение из наших правил. Следователь пригласит на допрос стенографистку. Вы способны сформулировать под стенограмму то, что хотели сформулировать письменно?
— Способен.
— Хорошо. Идите в камеру. Вопрос, который будет задан, вам известен. Готовьтесь к подробному ответу под стенограмму. Дадим вам на подготовку пару суток.
— Спасибо, — сказал я, вставая.
— Ну, видишь, — сказал Козырев Трофимову, — одумался твой подопечный. Я же ему сказал — и не таких обламывали.
Он явно хотел подчеркнуть свое профессиональное мастерство, которого Трофимову-де не хватило.
Я же, шагая с конвоиром обратно в камеру, испытывал чувство торжества, как бы теперь сказали — находился в состоянии эйфории. (Тогда я этого термина не знал). А как же! Я все-таки одержал победу. «Если так пойдет дальше.» — думал я.
В таком же состоянии оставался я и лежа без сна на своей койке. Тогда я сочинил весьма бодрое стихотворение, посвященное жене.
Мой друг, не беспокойся ты,
Надета на меня
Завидного спокойствия
Надежная броня.
И сколько ни старается
Мой следователь — черт,
Чуть не на стол взбирается —
Спокоен я и тверд.
А если он скапотится,
Начнет кричать во сне —
Не нам о нем заботиться,
А ей — его жене.
Мысль о свободе гордая
Живет в стенах тюрьмы,
И знаю очень твердо я,
Что вместе будем мы[9].
Перечитывая теперь эти строки, не могу не подумать о том, как все-таки недалеки друг от друга оптимизм (скажем мягче — избыточный оптимизм) и глупость. И «броня» моя оказалась не такой уж «надежной». И следователь мой не «скапотился», и, вероятно, не кричал во сне. По крайней мере, из-за меня. Вместе с семьей я оказался только через пять долгих лет. Да и то лишь потому так быстро, что умер Сталин.
Нет, воистину, в знаменитом споре — кому лучше сидеть в тюрьме — старому или молодому — прав был Старик Ефимов. Молодому оказаться в таком положении все же лучше, чем старому. Только благодаря молодости (молодому и глупому оптимизму) можно было в сталинской тюрьме испытать чувство какой-то победы над следствием и проникнуться на основании этой малой победы надеждой на победу большую — на то, что сумеешь доказать свою невиновность и выйти на свободу. Факт, однако, остается фактом — я был в то время избыточным оптимистом. И это, кстати сказать, несмотря на то, что всего года за два до своего ареста, прочитал в оригинале, в порядке сдачи кандидатского минимума по французскому языку, сатирический роман Вольтера — «Кандид». Его герой — неисправимый оптимист Панглос — в любых ситуациях восклицал: «Все к лучшему!» Последний раз он провопил эти слова в момент казни, когда его подвергли кастрации.
Не буду подробно описывать ход дальнейшего следствия. После состоявшегося допроса под стенограмму, к которому я старательно подготовился, интересных моментов вспоминаю всего три или четыре. О них сейчас и расскажу.
Как я узнал потом, при ознакомлении со своим делом по окончании следствия, сильные страсти разыгрывались за кулисами моих допросов. А в своей «надводной части» следствие шло довольно вяло.
Следователи обязаны были — за этим наблюдал прокурор по надзору за тюрьмой — вызывать обвиняемого на допрос не реже одного раза в две или в три недели. Трофимов не раз вызывал меня ради проформы. Бывало, я по нескольку часов просиживал перед ним на стуле, а он занимался своим делом. Мне он рекомендовал изучать карту Советского Союза, висевшую на стене кабинета примерно напротив моего стула.
— Выбирай место на севере — куда тебя направить, — советовал он мне.
Разумеется, я должен был «изучать» карту на расстоянии, сидя на своем месте. Под конец такого «сидения» Трофимов заполнял протокол допроса, задав, опять-таки для порядка, один-два малозначительных вопроса. Я отвечал, подписывал протокол и шагал в камеру. Формальность была соблюдена. Сам Трофимов, как оказалось, был секретарем парторганизации следственного отдела и занимался во время таких пустых допросов своей общественной работой. Один за другим заходили к нему какие-то сотрудники Управления, видимо, следователи, а может быть, и другие, состоящие у него на учете, чтобы заплатить членские взносы. При каждом таком появлении происходил маленький «типовой» спектакль. Поговорив о том о сем, например, о футболе, об отметках сына или дочери посетителя, о том, как тот отдохнул в отпуске. Трофимов обязательно, словно соблюдая ритуал, переходил к одной и той же теме. Причем говорил каждый раз почти одними и теми же словами:
— Вот, полюбуйтесь. Сколько лет работаю, но такого матерого врага, такого бессовестного лжеца — еще никогда не встречал.
Посетители с деланным любопытством оглядывали меня, словно диковинного зверя. Некоторые из них, подыгрывая Трофимову, что-то изрекали, вроде: «По роже видно — враг!»
Однажды между таким посетителем и мною произошло столкновение, доставившее мне много переживаний.
Как-то раз, во время допроса в кабинет Трофимова зашел пожилой майор. Начался обычный спектакль.
— Здравствуй, товарищ Горшков. Вот обрати внимание на этого человека. — Трофимов кивнул в мою сторону, доставая при этом из стола ведомость для приема партийных взносов. — Такого матерого врага мне еще не приходилось допрашивать. Ей-богу.
— Да, видать, матерый враг, закоренелый, — сказал майор, даже не взглянув в мою сторону. Он в тот момент вынимал из портмоне какие-то рубли и внимательно их отсчитывал.
— Нет, ты взгляни на него, взгляни, — продолжал Трофимов, беря из рук майора деньги. Он был явно недоволен безразличным отношением майора к его словам обо мне. Тот повернулся в мою сторону.
— Да нет, я вижу. Я с первого взгляда определил, что это матерый враг.