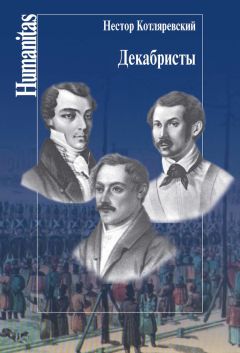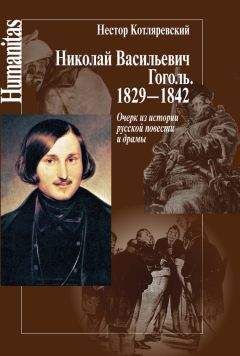Ознакомительная версия.
Так бравурно писал Бестужев, и в каждой строке чувствовалось довольство собой и делом. Но это были единственные дни подъема духа за всю его дербентскую жизнь. Помимо скуки, дербентская жизнь была и в ином смысле жизнью тяжелой. Начальник Бестужева – батальонный командир – был человек грубый и злой: он вымещал на Бестужеве свое умственное и нравственное ничтожество, заставлял его нести солдатскую службу со всей ее тяготой и выжидал только минуты, чтобы ослушание дало ему право по-солдатски расправиться с этим штрафованным гвардейским офицером.[207] Бестужев понимал это и потому беспрекословно повиновался грубой силе.
Не находил он себе поддержки и в обществе офицеров, обыкновенно доброжелательно относящихся к своим штрафным товарищам. Это была не грубая, но очень пустая среда; с ними – как говорил Бестужев – надо было или пить, или терпеть от них: первое для Александра Александровича было бы, конечно, весьма нетрудным делом, если бы петербургская компания не научила его мешать вино с сердечностью, умом и остроумием, а этих-то прикрас веселой пирушки и не было в Дербенте. Исключением среди всех этих лиц был только один дербентский комендант Шнитников, в семействе которого Бестужев встречал и ласку, и внимание: зато ему и приходилось, по приказанию батальонного командира, всего чаще отстаивать на часах именно перед комендантским домом.
«Как бы то ни было, – писал Бестужев братьям, – но в воображении я еще живу, хотя по сущности бытие мое Бог знает что такое: смертью назвать грешно, а жизнью совестно. Русский, для которого водка не есть элемент, как вода для рыбы, есть здешний Робинзон на необитаемом острове: с желанием узнать что-нибудь, он не выменяет ни одной человеческой, не только европейской идеи».[208]
Думы и сны Александра Александровича летели от этой скучной стороны к далекому, далекому прошлому; часто вспоминалась ему его туманная родина – его север, где он цвел ребенком, где жил юношей, где страдал и погиб… там, казалось ему, схоронено его сердце, а здесь блуждает лишь его лживый призрак.
«Неужели кровь моя стынет? – спрашивал он себя со страхом. – Зачем же кипит еще мое сердце! Зачем сны наяву волнуют его, а оно не оживляет моих сновидений по-прежнему? Да, в эту ночь я видел себя ребенком, видел отца моего, доброго, благородного, умного отца; видел будто мы ждем его к обеду от графа Александра Сергеевича Строганова, который бывал именинник в один день с нами… И все заботы хозяйства, раскладка вареньев на блюдечки, раскупорка бочонка с виноградом, и стол, блестящий снегом скатерти, льдом хрусталя, и миндальный пирог с сахарным амуром посредине, и себя в новой курточке, расхаживающего между огромными подсвечниками, в которые ввертывают восковые свечи, и все это виделось мне точь-в-точь как бывало. Но кругом было сумрачно, внутри меня холодно: я был уже зритель, не действовал на этом празднике. Я проснулся с досадой… И так луч мороза судьбы проникает даже в воображение, даже в сон – горькое открытие, горькое сознание!»[209]
На эти думы о прошлом, о родине и о тех, кто остался жить там на севере, в мирной и теперь опустевшей печальной усадьбе, – наводили Бестужева его братья Павел и Петр, которые изредка у него гостили. То были радостные встречи и вместе с тем очень печальные. Бестужев любил этих братьев не менее, чем других двух, схороненных в Сибири. Особенным его любимцем был брат Павел, любовь к которому у Александра Александровича смешивалась с чувством некоторой своей виновности перед ним. Он не мог забыть, что тот брат был сослан на Кавказ только потому, что носил фамилию Бестужева;[210] и хоть присутствие брата и грело его сердце, хоть он расцветал и духом, и телом, когда сидел с ним рядом, но Александр Александрович безумно обрадовался, когда узнал, что брату разрешено вернуться на родину обрадовался, несмотря на какое-то тайное предчувствие, которое говорило ему, что он с ним более не увидится. Но мысль о том, что брат спасен для матери, для сестер и для вольной жизни, одна эта мысль искупала скуку и тяготу одиночества, от которых так страдал Бестужев, когда подле себе не имел «Ваплика», как он звал своего любимца. И, действительно, только он один служил ему утешением, а мысль о других была всегда источником страдания. «И где твой дар, – писал он брату Николаю, – где твои таланты, твое сердце, которому не найти пары в подлунной, – схоронено, зарыто, тлеет, как виноград на корню; Боже мой, Боже! Луч солнца утоплен в омуте, звезда, упавшая с неба, гаснет во мраках ада!» «Тебе, брат, – говорил он, обращаясь к другому брату, Михаилу, – тебе я отдаю терновый венок терпения, ты весело несешь свой крест и, как забытый цветок на этом сенокосе всех радостей, веселишь сердца родных, души знакомых. О! да сохранит Провидение неизменным этот высокий в тебе характер, эту покорность к воле небесной… Со слезами говорю далекое прощай, вам, недооплаканные живые мертвецы. Потомство бы рыдало, если бы прочло эти строки»… Еще ужаснее, чем эти мысли о далеком Петровске, отзывались на душе Бестужева страдания его брата Петра… Рассудок этого несчастного человека медленно угасал на глазах у Александра Александровича. Сначала какой-то сплин стал заволакивать его душу: «Все черные мечты машут около него своими перепончатыми крыльями», – писал о нем с тревогой его брат; потом эта меланхолия стала медленно переходить в манию преследования; больной перестал есть и однажды просидел семь суток впроголодь. Бестужев выхлопотал ему разрешение погостить в Дербенте, но это свидание братьев не принесло ни облегчения больному, ни утешения здоровому. Больной не выходил из палатки, свои мечты принимал за существенность: ему везде слышались голоса, везде виделось чудо, то жуки с человеческими глазами, то мыши в образе кого-нибудь. Он говорил, что его судят какие-то существа, что собаки ему поклоняются, что он высокое создание, обреченное на гибель; толковал он что-то и об Аракчееве… наконец, стал подозревать и своего брата в том, что он хочет завладеть его способностями, что он ему завидует, что он посредством магии собирает собак и терзает его слух… Бестужев страдал невыносимо, пока, наконец, не получено было разрешение отправить больного к матери в деревню; но мысль о старухе, на руках которой теперь очутился сумасшедший, не могла же назваться облегчением.
Так испытывала судьба Бестужева, который надеялся, «что пять лет страданий дадут ему некоторое право на надежду лучшего». Но это лучшее не наступало, и вся дербентская жизнь Бестужева была почти сплошным терзанием и духа, и плоти.[211] Случалось, впрочем, – но это было так редко – что он покидал Дербент и уезжал в горы: там отдыхал он среди горцев, которые, как он сам признавался, были все от него без ума и с которыми он позволял себе иной раз довольно шумное веселье. Среди дикой природы, которую он так любил, он чувствовал себя легче. Ни газет, ни вестей, ни даже русского слова не слыхал он; около него каркали лезгины, и сам он болтал только по-татарски; с людьми было скучно, но зато что за воздух, что за природа были здесь! Он по целым часам прислушивался к ропоту горных речек и любовался игрой света на свежей зелени и яркой белизне снегов.[212]
Но вот что писал он из этих горных ущелий своим братьям: «Я топтал снежные вершины Кавказа, но и в тот миг, когда восхищенный забывал все, в сердце лежало что-то свинцовое: это было чувство одиночества; это был гвоздь, прибивавший меня к земле».
Да, Бестужев был одинок, очень угнетен и печален и, быть может, это минорное настроение духа и было источником того ухарства и бравады, которые отмечают его поведение с женской половиной дербентских обитателей. Он вел себя в Дербенте, как записной ловелас и даже хвастался своими подвигами.
Выберем несколько строк из его переписки, чтобы показать, чем и как наш приниженный и печальный поэт разнообразил свои скучные и тяжелые дни. Эти признания осветят нам с новой стороны его характер.
Вот эти записи, которые было бы неделикатно перепечатывать, если бы мы не имели дела с исторической личностью, с которыми принято не церемониться.
«Я с нового года (1832), – пишет Бестужев брату, – пустился в волокитство, и очень счастливо: владею лучшей дамочкой из целого города. Elle fait des folies pour moi, и я будто переживаю годы молодости. Впрочем, ты, я думаю, помнишь меня в Арзеруме? Я еще довольно свеж для 33-летнего возраста, а сводить с ума женщин мне не новинка. Итак – vogue la galère. Оттого, правда, мои занятия идут плохо, но зато я живу для себя – а это разве безделица!”
«Я было попался в кляпцы со своими амуреттами, да вывернулся; но теперь глядят за дамой во сто глаз. Пришлось поневоле или по охоте пробовать других». Похождения нашего героя кончались иногда совсем не мирно: героиня отделывалась тумаками, которые получала от своего ревнивого мужа, а Бестужев принимался чистить свои пистолеты. «Всегда рука на ручке кинжала, – писал он, – и ухо – на часах… и переодеванье ее, и прогулки, и визиты ко мне… и удачные забавные обманы аргусов – о! я прелюбопытный роман вроде Фобласа! Я всегда был так счастлив с женщинами, что не постигаю, чем я это заслужил. И что осталось после всего этого? Фейерверк кончился… грязные доски, дым, угар, сожженные платья, растерянные вещи и раскаяние потерянного времени!» Характерная заметка, в которой наш Дон Жуан обнаруживает свое родство с разочарованными типами. Еще характернее другая заметка, которая искупает всю, иной раз циничную, откровенность нашего ловеласа. «Не поверишь, – пишет он брату, – как глубоко трогает меня всякое падение невинности: всякий разврат в других меня оскорбляет, меня, который, конечно, не стоик, но сердце у меня чисто, несмотря на то, что ум XVIII века на этот счет».
Ознакомительная версия.