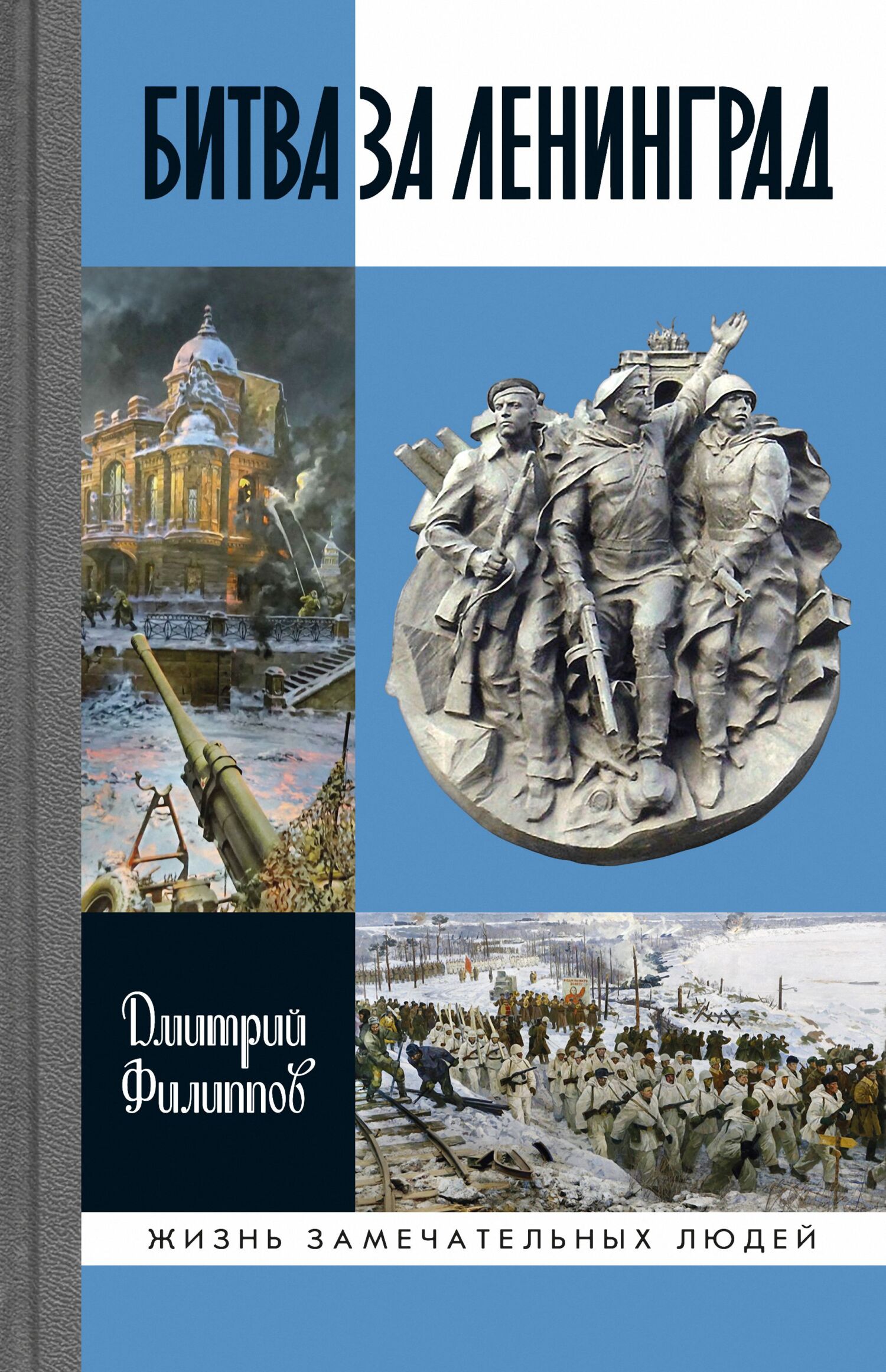сначала выходят легкие танки Т-60. Они быстро пересекают полукилометровую реку прямо по неусиленному льду. Саперы взрывают грунт на другом берегу, чтобы облегчить танкам подъем. После этого по «пришитой» дороге выходит на лед Т-34. Сначала машина идет ровно, хорошо, но через 150 метров лед угрожающе трещит, в следующее мгновение под танком расползаются трещины, бруски колом вздыбливаются и танк медленно, словно нехотя, опускается в воду. Ворошилов в ярости. Говоров более спокоен. Приказывает разобраться в причинах неудачи. Оказалось, болты еще не успели смерзнуться со льдом. Надо было проводить новые испытания. Но еще один танк Говоров наотрез отказался давать: «Другого не дам. Вытаскивайте утонувший…» Вытащили. Через несколько дней провели еще одно испытание. Танк четыре раза прошел по колейному настилу.
В декабре 1942 года произошло еще одно значимое для Говорова событие: к нему из Москвы приехала жена — вопреки его строжайшему запрету. Просто потому, что любит и считает себя обязанной в этот сложный период находиться рядом с мужем. Надо сказать, что с самого начала войны Леонид Александрович писал своей жене трогательные и нежные письма, за которыми не видно обычной сухости, сдержанности. Словно в письме домой спадала вся эта военная шелуха и Говоров позволял себе быть таким, какой он и есть на самом деле: верным и любящим мужем, заботливым отцом. Вот некоторые отрывки из этих писем, любезно предоставленные автору книги внуком Леонида Александровича: «Моя милая, дорогая, ненаглядная Лидочка!
Прошел уже месяц, как мы расстались, и я не имею сведений о тебе. Моя дорогая, со мной все благополучно, жив, здоров и полон энергии, чтобы, как и в Финляндии, выполнить все, что требует Родина. Недостает мне сведений о тебе, пиши скорее: как живешь, как здоровье твое и Ледика [так в семье называли сына Владимира. — Ал. Говоров], что делаете.
Обо мне не беспокойтесь, у меня все идет хорошо…
Лидочка, тебе будет трудно, но ты стойко вынесла нашу разлуку во время войны с Финляндией, и я уверен, что так же стойко справишься с трудностями и сейчас, хотя они во много раз тяжелее…
Ледик!
Все внимание удели учебе этого года, это твоя главная задача. Подчини ей все. Пиши мне скорее.
Леня
Сентябрь 1941 года».
Или вот такое:
«Здравствуй милая, дорогая Лидочка моя!
Я не получил от тебя ни одного письма, ни одной весточки. Не знаю, получаешь ли ты мои, правда, редкие письма и телеграммы. Я жив, здоров, но меня очень беспокоит неизвестность твоего и Ледика положения.
Где вы находитесь сейчас, где учится Ледик? Это очень важный вопрос. <…>
Обо мне не беспокойтесь, ты знаешь, как отдаюсь я работе и порученному делу.
Переноси стойко тяжелые дни, береги себя, побьем врага, и придут дни, когда встретимся и снова будем вместе, а сейчас обстановка требует жертв. <…>
Постараюсь почаще писать тебе. Лидочка, моя дорогая, милая, ненаглядная.
23.9.41».
Ответных писем Лидии Говоровой к мужу не сохранилось, но вот что она сама вспоминает о своей поездке в Ленинград: «В декабре 1942 года, несмотря на возражения мужа, я решила ехать в Ленинград. Знала, как ему трудно, и хотела быть рядом. Наш самолет в результате обледенения совершил вынужденную посадку вблизи Ладожского озера. До берега пришлось добираться на дрезине, потом на автомашине по льду „Дороги жизни“. Наша легковушка шла в колонне грузовиков, доставлявших в Ленинград продовольствие. Неожиданно, на моих глазах, шедший впереди грузовик стал проваливаться под лед. Водитель в последнюю минуту успел выпрыгнуть из кабины через открытую дверь. Берега не было видно. Кругом следы разрывов снарядов и бомб. На своих постах стояли девушки-регулировщицы — на ветру в любую погоду, днем и ночью. Дорога обстреливалась с немецкой педантичностью — с определенными интервалами. И надо было успеть „проскочить“. В ожидании артобстрела и бомбежки дорога казалась бесконечной, хотя мы ехали немногим больше часа. О том, что пришлось пережить мужу, можно судить по такому эпизоду. Накануне прорыва блокады в январе 1943 года я спросила его, все ли готово и что будет в случае неудачи. Он ответил, что все просчитано, войска готовы. „Ну, а в случае неудачи, — чуть улыбнувшись, сказал он, — остается головой в прорубь“» [113].
Вот это «головой в прорубь» надо понимать буквально. Слишком долго готовилась операция, слишком много сил было задействовано, чтобы допустить даже возможность неудачи. И каждый день в Ленинграде по-прежнему гибли люди от голода.
Вторая блокадная зима была несравнимо легче первой. Вот как вспоминает конец декабря житель Города Л. П. Галько: «Побывал в городе. Попробовал бегло сравнить обстановку сегодняшнего дня с обстановкой 27 декабря 1941 г. Тогда на улицах везли на саночках завернутых в тряпье покойников. Народ еле ходил, падали от истощения, не работали водопроводы, не было освещения. Сегодня положение совершенно иное. Утром я ушел в город после завтрака и чувствовал себя сытым. У Нарвских ворот сел на трамвай (в прошлом году ходил с завода пешком). В трамвае народ оживленно беседует, чувствуется, что не голодны… С 15 декабря в ряде районов в жилых домах появился электросвет» [114].
Безостановочная работа Дороги жизни позволила обеспечить Ленинград продовольствием по нормам, установленным 11 февраля 1942 года. Для рабочих она составляла 500 граммов, для детей и иждивенцев — 300 граммов. При этом нормы выдачи жиров, сахара и отдельных круп даже превышали московские нормы. Говорить о том, что ленинградцы стали питаться вдосталь, конечно, нельзя. Но проблема обеспечения питанием уже не стояла так остро, как это было год назад в первую блокадную зиму.
Также необходимо понимать, что большинство ленинградцев, оставшихся в Городе, — это были люди с уже надорванным здоровьем, с трудом оправившиеся после дистрофии. Их психика была травмирована пережитым голодом, бомбежками, потерей родных и близких. Любое дополнительное напряжение, физическое или умственное, выводило их из строя. Особенно эти тенденции усилились с наступлением холодов осенью 1942 года. «„Истощение снова выводит людей из строя. В инструментальном цехе № 1 уже 7 человек дистрофиков. Некоторые из них уже побывали в больнице, другие лежат, третьи на очереди“, — записал 7 декабря 1942 г. в своем дневнике один из работников Кировского завода. В конце 1942 г. в Ленинграде резко увеличилась заболеваемость гипертонической болезнью. Около половины госпитализированных больных составляли люди, страдавшие дистрофией» [115].
С появлением Дороги жизни голод отступил, но не ушел насовсем, а лишь затаился, спрятался, залез в самые бедные кварталы, бараки, под койки больных, укрылся в глазах стариков. Город по-прежнему находился в блокаде, и это угнетало его жителей, не давало вздохнуть полной грудью. Поэтому прорыв блокады был необходим, как воздух. Он означал победу, жизнь, хлеб.
К концу 1942 года группа армий «Север» лишилась своих последних танковых резервов, еще 12