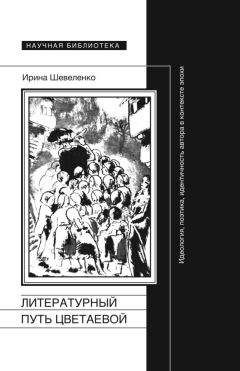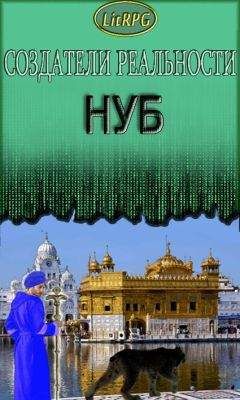Отдельные встречи и разлуки получают в стихах сборника обобщенное толкование, и в авторской речи их опыт сливается в нечто единое, цельное, не дробимое на частные случаи:
Собирая любимых в путь —
Я им песни пою на память,
Чтобы приняли как‐нибудь —
Чтó когда‐то дарили сами.
(СП, 86)
Когда же единичное входит в текст, оно сразу оказывается многоликим, вбирающим в себя целый спектр возможностей. Так, Осип Мандельштам предстает в стихах февраля 1916 года и «молодым Державиным», и «гордецом и вралем», и «божественным мальчиком», и «отроком лукавым». Биографическая эмпирика оказывается легко переводимой на образные языки других эпох. Индивидуальная жизнь, отразившись в зеркалах многих времен, оказывается уже не одной, а многими, не частным случаем, а типом, изменчивым и неизменным – в зависимости от угла зрения. Авторское «я» одинаково легко перевоплощается в персонажей сказочных и исторических, опознавая в судьбах тех и других частицу своей собственной или же творя из частиц чужих судеб свою новую легенду:
Кабы нас с тобой – да судьба свела —
Ох, веселые пошли бы по земле дела!
Не один бы нам поклонился град,
Ох, мой рóдный, мой природный, мой безродный брат!
Как последний сгас на мосту фонарь —
Я кабацкая царица, ты кабацкий царь.
Присягай, народ, моему царю!
Присягай его царице, – всех собой дарю!
Кабы нас с тобой – да судьба свела —
Поработали бы царские на нас колокола,
Поднялся бы звон по Москве-реке
О прекрасной самозванке и ее дружке.
Нагулявшись, наплясавшись на земном пиру,
Покачались бы мы, братец, на ночном ветру…
И пылила бы дороженька – бела, бела —
Кабы нас с тобой – да судьба свела!
(СП, 132)
Узнаваемый исторический сюжет – история Лже-Дмитрия и Марины Мнишек – используется Цветаевой вовсе не для исторических ассоциаций. В истории ее интересует то, что можно деисторизовать, универсализировать: характеры героев. Разумеется, прежде чем стать интересными автору, характеры эти «доводятся» до эпической очерченности, причем ролевая травестия перемещает фокус с героя на героиню: вместо самозванца и его жены – «самозванка» и ее «дружок». Все, что происходит с героями (точнее, могло бы произойти, – ибо стихотворение написано в сослагательном наклонении), мотивировано их характерами и помещено во вневременной стилизованный «национальный» антураж.
Большинство героев и адресатов стихов Цветаевой проходят по страницам «Верст I» инкогнито: и Мандельштам, и Парнок, и Тихон Чурилин, и Никодим Плуцер-Сарна145. Тем резче на этом фоне выступает названность двух имен – Блока и Ахматовой. Циклы «Стихи к Блоку» и «Стихи к Ахматовой»146 принадлежат, пожалуй, к наиболее неортодоксальным образцам поэтических посвящений и приношений в поэзии модернизма. «Конечно, А. Блок – большой поэт, но к чему эта истерическая психопатия?»147 – напишет впоследствии И. Кубиков, рецензируя альманах «Пересвет», в котором впервые будут опубликованы четыре стихотворения Цветаевой, обращенных к Блоку (лишь два из них – из «Верст I»). Такая реакция будет характéрной и ее причины понятными: стилистический регистр стихов Цветаевой, обращенных к ее живым современникам, будет оцениваться как немотивированно высокий. Исследователи Цветаевой впоследствии приложат немало усилий к толкованию истоков и смысла этих циклов, акцентируя внимание либо на апологетической их стороне, либо на скрытом в них самоутверждающем пафосе, либо на интертекстуальности (использовании Цветаевой образов поэзии Блока и Ахматовой), либо на их стилистике в целом148. Если вспомнить цветаевское признание В. Розанову, что для нее «каждый поэт – умерший или живой – действующее лицо в [ее] жизни», то можно увидеть в стихах, обращенных к Блоку и Ахматовой, иллюстрацию именно такой тактики. Если же учесть, что циклы эти обращены к уже широко известным поэтам, а написаны поэтом, не составившим себе пока устойчивой репутации, то можно предположить, что славословия Цветаевой – способ приобщить свое имя к именам знаменитых собратьев, самоутвердиться. Однако ее литературная игра более изысканна.
Л. В. Зубова убедительно связала стилистическое решение обоих циклов с исихастской стилистикой «плетения словес»149, в данном случае проявляющей себя прежде всего в поэтической разработке темы «имени» и «сущности», в использовании риторических приемов приближения к сущности через исследование имени, его коннотаций и скрытых в нем смыслов. Что же, однако, выводит Цветаеву на путь этих квази-исихастских имитаций?
«Руки люблю / Целовать и люблю / Имена раздавать» (СП, 116), – так начинается стихотворение, в композиции сборника отделяющее один цикл от другого. Страсть «имена раздавать» – одна из бросающихся в глаза особенностей обоих циклов. В статье Л. В. Зубовой подробно анализируются первые стихотворения каждого из циклов и отмечаются две принципиальные стратегии цветаевского «имятворчества»: 1) неназывание истинного имени, замена его иными именами и подобиями («Имя твое – птица в руке…») и 2) нарочитое подчеркивание имени, в котором как будто должна раскрываться сущность человека:
И мы шарахаемся, и глухое: ох! —
Стотысячное – тебе присягает. – Анна
Ахматова! – Это имя – огромный вздох
И в глубь он падает, которая безымянна.
(«Стихи к Ахматовой», 1; СП, 117)
Эта игра с темами имени/безымянности, называния/неназывания имени подсказана Цветаевой, по‐видимому, одним из «безымянных» героев «Верст I» – Мандельштамом. Вероятно, еще летом 1915 года Цветаева знакомится с его стихотворением «И поныне на Афоне…»150. Это стихотворение вошло затем во второе издание сборника Мандельштама «Камень», которое тот надписал и подарил Цветаевой 10 января 1916 года в Петербурге151. Стихотворение Мандельштама содержит косвенный отклик на недавние события церковной жизни, имевшие широкий общественный резонанс: распространение в конце 1900‐х годов ереси имяславия, или имябожничества, в русских православных монастырях на Афоне и официальное осуждение ее в 1913 году русской православной церковью152. Ключевым элементом ереси было отождествление имени Бога с самим Богом, провозглашение воплощенности Бога в его имени. И. Паперно так характеризует истоки и суть имяславия:
Вопрос о сущности божественного имени вырос из толкования связанной с традицией исихазма мистической «Иисусовой молитвы», известной также как «умная молитва», «умное делание», «внутренняя молитва» <…>, которая составляет один из центральных элементов православной духовной жизни. Молитва эта состоит в повторении имени «Иисус». По мере углубления мистического состояния, имя теряет свою внешнюю словесную оболочку, перестает произноситься вслух, а затем и про себя и, «срастившись с дыханием», в безмолвии пребывает в сердце молящегося. Этот акт приводит к соединению с Богом в его имени. <…>