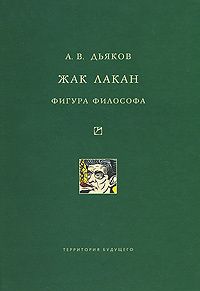Только речь сообщает смысл действиям индивида, который живет в области «конкретного дискурса как поля трансиндивидуальной реальности субъекта». Говорящий конституируется своим говорением как интерсубъективность, и лишь внутри интерсубъективности конституируется история субъекта. В этом свете Лакан дает и дефиницию бессознательного: «Бессознательное есть та часть конкретного трансиндивидуального дискурса, которой не хватает субъекту для восстановления непрерывности своего сознательного дискурса»[151]. События рождаются в первичной историзации; иными словами, история создается на той самой сцене, на которой она, будучи однажды уже записана, разыгрывается вновь. Одно и то же историческое событие может переживаться либо как победа или поражение парламента и двора, либо как победа или поражение пролетариата и буржуазии. Поскольку в памяти людей эти события в зависимости от интерпретации оставляют разный след, можно считать, что это разные исторические события. Лакан не забывает раскланяться перед коммунистами: первое событие, говорит он, изживается с исчезновением реальности парламента и двора, тогда как второе останется в памяти людской до тех пор, пока существуют люди, подчиняющие свой бунт борьбе за выход рабочего класса на политическую сцену, то есть те, для кого имеет смысл диалектический материализм[152]. По сути, Лакан предвосхищает некоторые положения «Критики диалектического сознания» Сартра. Впрочем, Сартр еще только движется к синтезу экзистенциализма и марксизма, а Лакан не замечает несовместимости своего «структуралистского» представления об истории с историческим материализмом. Во всяком случае, он не сомневается в том, что эти его замечания имеют самое непосредственное отношение к психоанализу, поскольку позволяют отделить технику расшифровки бессознательного от теории инстинктов и влечений.
«То, что мы приучаем субъекта рассматривать как бессознательное, – это его история»[153]. Иными словами, аналитик помогает субъекту осуществить сегодняшнюю историзацию фактов, обусловивших в прошлом исторические «повороты» в его существовании. Однако эту роль они смогли сыграть только в качестве фактов уже исторических, то есть так или иначе признанных или подвергшихся цензуре. Забытое проявляется в действиях, вытесненное сопротивляется тому, что говорится в каких-то других фрагментах речи, а обязательство (кивок в сторону Сартра) увековечивает в символе ту иллюзию, в плену которой оказался субъект. Не имеет смысла говорить о каких-то «биологических» инстинктах, поскольку инстинктивные стадии в самом процессе их переживания организованы в субъективность. Если усматривать в биологических инстинктах стадию созревания Я, то придется признать существование образа Я и у креветки, и у медузы. Итак, субъект не есть ни результат биологического онтогенеза, ни субъективность; он выходит далеко за пределы субъективного восприятия, и истина его истории не помещается целиком в произносимом им тексте. «Бессознательное субъекта есть дискурс другого…»[154] Пока ничего более ясного мы о субъекте не услышим.
Желание индивида получает свой смысл только в желании другого, поскольку его главный объект – признание со стороны другого. Чтобы быть удовлетворенным, это желание требует признания в символе или в регистре Воображаемого, оборачиваясь поисками речевого согласия или борьбой за престиж. Задача психоанализа заключается в том, чтобы в субъекте воцарилась толика реальности, которую желание поддерживает по отношению к символическим конфликтам и воображаемым фиксациям как средство их согласования. «…Наш путь – это тот интерсубъективный опыт, в котором желание достигает признания»[155].
В свете такой кожевианской концепции субъекта Лакан утверждает, что символ и язык представляют собой одновременно и структуру, и границу поля психоанализа. Симптом, по Лакану, целиком разрешается в анализе языка, поскольку и сам он структурирован как язык; иными словами, симптом есть язык, речь которого призван «освободить» психоанализ. «…Первородство, которое отнял было у слова Гете… снова к нему возвращается…»[156] Символ приобретает постоянство концепта не в символическом действии (к которому способны и животные), но только в речи (неважно – звуковой или нет). Слово есть присутствие, созданное из отсутствия; посредством слова отсутствие начинает именоваться (fort/da Фрейда). Однако овладение тем объектом, заставляющее его появляться и исчезать, разом и предвосхищает, и провоцирует его присутствие и отсутствие. Это овладение вместе с тем убивает объект: «…Символ с самого начала заявляет о себе убийством вещи, и смертью этой увековечивается в субъекте его желание»[157]. Потому и сам субъект утверждает себя для других как желание смерти[158].
Из модулированной пары присутствия/отсутствия рождается вселенная языкового смысла, в которой впоследствии упорядочивается вселенная вещей. Концепт, который есть след (trace) некоего небытия, порождает вещь. Концепт есть сама вещь; более того, мир слов порождает мир вещей, сообщая их сущности свое конкретное бытие. «…Человек говорит, но говорит он благодаря символу, который его человеком сделал»[159]. Лакан опирается на этнографический материал: брак у «примитивных» племен определяется порядком предпочтений, правила которого, как и язык, имеют императивную форму, но по своей структуре являются бессознательными. Иными словами, над царством природы стоит царство культуры. «…Момент, когда желание становится человеческим, совпадает с моментом, когда ребенок рождается в язык»[160]. Этот Закон опирается на имя отца, которое есть древнейший носитель символической функции. Общая формула, предлагаемая Лаканом, выглядит следующим образом: «субъект не столько говорит, сколько сказывается»[161].
Принципы, лежащие в основе фрейдовской речи, как утверждает Лакан, есть не что иное, как диалектика самосознания, идущая от Сократа к Гегелю, которая «от ироничного предположения реальности всего рационального устремляется к научному суждению, гласящему, что все реальное рационально»[162]. Итак, Реальное рационально. Однако если у Гегеля реконструкция феноменологии духа располагала субъекта в центре самосознания, то открытие Фрейда позволяет увидеть, что субъект смещен относительно этого центра. Психоанализу необходимы основные структурные моменты гегелевской феноменологии: диалектика Господина и Раба, диалектика «прекрасной души» и «закона сердца» и вообще все то, что позволяет понять, каким образом конституирование объекта подчинено реализации субъекта. Если Гегель лишь пророчествовал о глубинной идентичности частного и универсального, то психоанализ открыл ту структуру, в которой идентичность реализуется как отъединяющаяся от субъекта. Чтобы освободить речь субъекта, необходимо ввести ее в язык его желания.
Но, чтобы преодолеть отчуждение субъекта, необходимо обнаружить смысл его дискурса во взаимоотношениях собственного Я (moi) субъекта и Я (je) его дискурса (moi и je различаются как эго и то, что обозначается фразой Фрейда: «Там, где было Оно, должно стать Я»). Для этого необходимо отказаться от мысли о том, что собственное Я субъекта идентично тому присутствию, которое обращает речь к аналитику. Таким образом, Лакан обращается к исследованию субъективности и опирается не столько на Гегеля, сколько на Сартра, которого в те времена должен был ругать по соображениям конъюнктуры. Психоанализ, говорит он, посредствует между человеком «озабоченным» и субъектом абсолютного знания и требует «деятельного включения субъекта в практику [анализа]»[163]. Именно на таком включении понятия субъективности в марксистское учение о практике настаивал Сартр.
Психоанализ подобен искусству хорошего мясника, с умением разделывающего тушу животного, разделяя суставы с наименьшим сопротивлением.
Ж. Лакан. Семинары. Кн. 1
«Лучшими годами» называли участники Французской психоаналитической ассоциации период 1953–1963 гг, когда возник новый раскол. В эти годы вокруг Лакана и Лагаша сложилась тесная группа единомышленников, выработавшая даже свой собственный сленг, инспирированный новоязом Октябрьской революции в России. Так, Лакан стал «большим Жаком» (grand Jacques) или «Лакановым» (Lacanov), Лагаш – «дядюшкой Дани» (oncle Dany), а возникшие в ассоциации группы стали «советами» или «тройками». Молодое поколение психоаналитиков, пришедшее в ассоциацию, не имело ничего общего с «героической эпохой» Международной психоаналитической ассоциации; французский психоанализ для нее начинался с 1948 г., а подлинными основателями этого движения в их глазах были Лагаш, Лакан, Ф. Дольто и М. Бове. Наиболее заметную роль среди нового поколения играла «тройка», составленная из Владимира Гранова, Сержа Леклера и Франсуа Перье, а также Мустафа Сафуан, Дидье Анзье, Жан-Бертран Понталис и Жан Лапланш. Все они были учениками и анализантами Лагаша и Лакана. Любимцем Лакана в эти годы был В. Гранов, который при втором расколе переметнется в лагерь МПА.