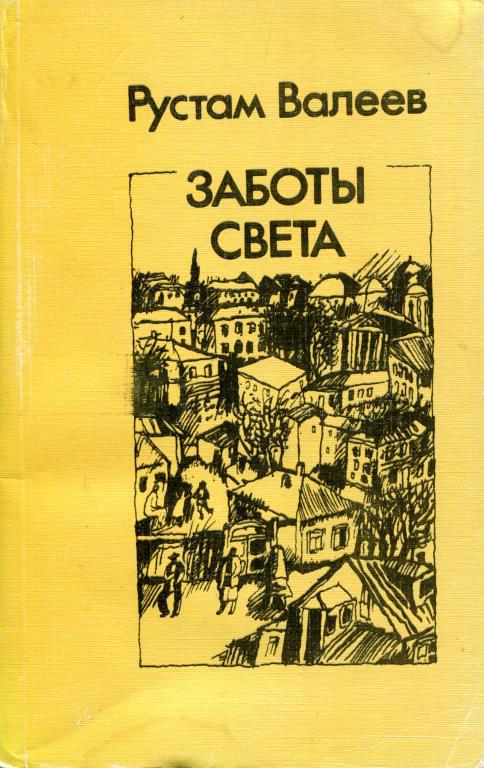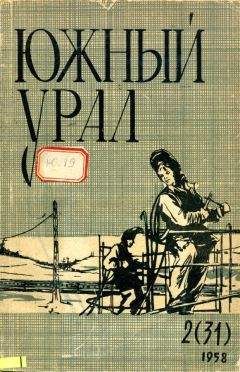обществом. А чаще приказчик пропадал в своей лавке и бог весть где еще.
Сестра удивлялась одежде брата. С лета он ходил в рубахе навыпуск, в картузе, какие носят русские мастеровые. К Мутыйгулле-хазрету он не являлся в этаком вызывающем наряде, но тот знал или видел его на улице и мягко увещевал. «Вы с Камилем, — говорил он, — имеете способность раздражать других. Кем-то из мудрецов сказано: ни дела, ни удачливость ваша, ни костюмы, ни богатство — ничто само по себе не вызывает зависти, а только ваш нрав». Габдулла соглашался про себя, но ему совсем не хотелось менять свой нрав.
Сестра женским своим чутьем понимала это, пугалась за него и спрашивала кротко:
— Зачем ты носишь эту одежду? Говорят, так одевается один русский богач, который не признает бога.
— Одежда как одежда.
— Говорят, ты еще и куришь?
— Да, — ответил он в первый же раз и ошеломил ее простым этим ответом.
Но сейчас была зима, картуза он не носил, а с тем, что он курит, сестра примирилась. И даже попросила однажды:
— Покури у меня. Да, да! Подыми над моими цветами, а то в них завелись какие-то твари.
Он улыбнулся, вынул портсигар и закурил.
— Наверно, у Камиля-эфенди, когда в доме собираются гости, курят, — говорила сестра.
— Кажется, да. — Он не помнил, курят ли гости. Да ему-то было все равно.
— Ты бываешь в хороших домах. Говорят, сам хазрет отзывается о тебе очень хорошо. Даст бог, женишься на доброй, богатой девушке…
— Подари мне этот платок, — сказал он вдруг.
— Платок? Этот? — Сестра сжимала в комочек батистовый, расшитый по краям платочек. — А зачем он тебе? На, бери.
Он молча взял платок и спрятал в нагрудный карман. И только потом удивился: что с ним? Зачем? И зачем он смущает сестру чудными выкрутасами, ей хватает и своих забот. Хорошо бы отдохнуть ей от повседневной житейской канители.
— А давай, Газиза, пообедаем в ресторане. Или покатаемся с горки?
Она глубоко вздохнула, нахмурила брови.
— Не надо со мной шутить. Ты хочешь, чтобы муж… — И слезы побежали по ее лицу. Она быстро спохватилась: — Ах, не думай ничего плохого!.. Я живу как все. Я думаю… вот ты не такой… ты странно говоришь, странно поступаешь. Все говорят: Габдулла умный, ученый. А какай у тебя будет жизнь? Ведь тебе не нравится, как мы живем. И богатым ты не завидуешь…
Он молчал. Пожалуй, впервые он почувствовал, что привычный уклад жизни, до сих пор объединявший людей, может их разъединить. А это просто — надеть рубаху с опояской, картуз и подразнить обывателя: вот же вам, я плюю на глупые ваши запреты, я волен поступать как хочу! И поступай как хочешь. И будь чужим. Но он не хотел быть чужим.
— Ладно, — сказал он виновато, — мне пора. — И, едва не заплакал от нежности, тоски, неизвестности.
В тот день он пошел к Хикмату, который жил теперь с Мадиной в ее саманном домике. Мадина, помнится, в шутку обращала его ухаживания, но когда умер у нее сын, она с боязливой поспешностью, точно в воду бросалась, склонилась к замужеству. Оба еще смущались того, что произошло меж ними, особенно Мадина (она была старше мужа на семь лет), и когда Габдулла приходил к ним, женщина убегала вроде по делам.
…Хикмат пристально вглядывался в него, качал головой:
— Ты болен? Бледный какой!..
— Работы много. — Он помолчал. — Я ведь тоже хочу оставить медресе, да все… какая-то лень, — так он сказал. — Нет, ты не подумай… у нас замечательные новости: будем выпускать еще и журнал. Да, работы много. Но, может быть, я действительно болен. Ну а ты?
— Да что я! — небрежно-хвастливо ответил Хикмат. — Я-то ничего, живу. А вот на заводе… хозяин уволил двенадцать человек.
— Забастовщиков?
— Да нет. Получил машины, люди стали не нужны.
— Ну, а что остальные?
— Почему не бастуют, не потрясают манифестом? Городок наш маленький, настоящих пролетариев мало… А что в Казани! Разоружили полицейских и все револьверы, шашки — все свезли на телеге к университету. Вооружилась народная милиция.
— Камиль рассказывал…
— Этот твой Камиль… — Хикмат поморщился. — Ты не очень-то верь этим либералам.
— Ты Камиля не задевай. У него в медресе каждый день фараон бывает. И за газетой посматривают. Камиль так же, как и ты, сочувствует народу.
— А я не сочувствую, я сам народ. У меня вон руки…
Габдулла усмехнулся:
— Хорошо еще, ты не сказал: я сам нация.
— Но я не верю, не верю, что эти новые дворяне… или кто, они там… пойдут с народом.
— Ладно, — сказал Габдулла, — время покажет.
Хикмат вышел его проводить.
— Может быть, зайдем к дяде Юнусу?
— Как-нибудь потом.
— А Моргулис уехал.
— Куда?
Хикмат загадочно улыбнулся и не ответил. Скорее всего и сам он не знал.
— Так, может быть, проведаем Нафисэ? — уже лукаво сказал Хикмат.
— В другой раз. До свидания.
Он чувствовал усталость, ночью правил корреспонденции, потом зашел Камиль, проговорили до утра. А утром — на занятия. «Так я долго не протяну, — подумал он, — надо бросать учебу. Зачем это мне? Муллой я не буду, а учителем в деревне и так смогу… «Ваши мысли соберите, нанизав одну к другой. Будем думать над плачевной нашей собственной судьбой…» Когда готовили они первые номера газеты, он много писал, но многое рвал и выбрасывал. А вот эти строки вернулись опять.
Был веселый морозец, быстро спускались сумерки, быстро катили, визжа полозьями, извозчичьи сани, в снежной протяженности сумерек тоже быстро, перекатно зажигались фонари на Большой Михайловской. В санях везли свежие молодые елки. Скоро Новый год. В магазине Мартыновой пропасть елочных украшений и поздравительных карточек, двери магазина не закрываются с утра до вечера. Новый год! Он шагал и взмахивал рукой, как бы ускоряя свое движение. «Наша мысль была убогой, наша мысль в плену жила. И скупая безнадежность с нами в старину жила…»
Проходя мимо харчевни, он ощутил тоскливый голод, но, пересилив себя, прошел мимо. Он вскипятит чаю покрепче и сядет за работу. Все-таки хорошо, что у него есть худжра, пусть бедная, но своя. Над материалами для газеты он, случалось, работал дома у Камиля, но там он чувствовал себя стесненно. А в типографии шумно, воздух сперт и вонюч, да и не удержишься от разговора с рабочими. Он решил, что повременит и не уйдет пока что из медресе.
Лето наступило.
Покончив с делами, Габдулла выходил на улицу — широко и неряшливо дремала она под знойными лучами. Одуряющая, захолустная тишь давила юношу со всех сторон.