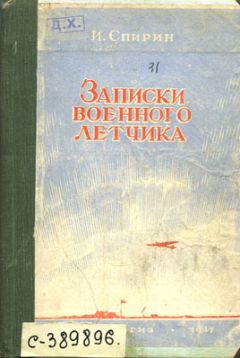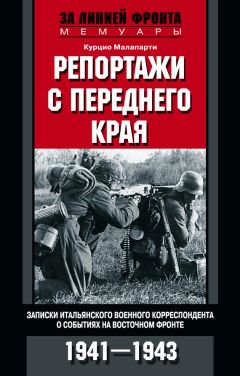Но ведь еще неделю назад мы пели: «Броня крепка и танки наши быстры». И еще песня: «Нас не трогай, и мы не тронем… А затронешь — спуску не дадим!». И еще много других хороших песен вспоминается…
В городе уже появились беженцы — те, кто испытал бомбежку, обстрел, бросили свой дом и с детьми приехали в Ленинград. Некоторые — к родственникам, большинство — к «никому». Их где-то расселяют. Тех, кто с детьми, отправляют дальше. Вообще предложено уехать из Ленинграда многодетным семьям. И отдельно детей отправляют, без родителей, до осени. Все вокзалы переполнены уезжающими: с Балтийского и Варшавского провожают на фронт, с Московского — детей и тех, кто уезжает на восток, в глубь страны.
Вчера я провожала папу. Мама простилась дома, т. к. была вызвана в райком по месту работы на инструктаж по эвакуации учреждений. На Балтийском вокзале все забито военными и провожающими. Крики, слезы женщин, команды собирающих свои отряды, музыка, ребятишки, шныряющие под ногами, гудки паровозов… И — жара. Очень жаркие дни стоят, и от этого все кажется еще более странным и нереальным. Папа не хотел, чтобы я на перрон с ним шла, и мы посидели с ним немножко в тени, на досках возле товарных складов. Ни о чем толком поговорить не удалось. Просил, чтоб я «не глупила» и берегла маму. («Не глупила» — это он насчет моих попыток весной уйти из дома и стать самостоятельной). Он доволен тем, что я в авиационный институт поступила. И то, что буду работать, одобряет тоже. И вообще мы с ним, кажется, впервые почувствовали близость, желание понять друг друга… И вот надо расставаться. Мне вдруг так страшно стало. Папа в военной форме выглядит незнакомым и будто ему неловко в ней. Очки к форме не идут, и он их все время поправляет. Он батальонный комиссар, с одной шпалой в петлице, политработник, и я постеснялась, не спросила, почему ему винтовку не дали, а только револьвер в кобуре. Ведь на фронте всякое может случиться… Простились мы так, будто он в очередную командировку едет… А когда шла домой и навстречу отряды мобилизованных, вдруг поняла, что, может быть, все эти мужчины идут по Ленинграду в последний раз. Не все, но некоторые из них… И страшно стало вглядываться в их лица. И стыдно перед ними за то, что они идут туда, к вокзалу, а я — навстречу им, оттуда…
7 июля 1941 г.
Уже неделю работаю. На судостроительном заводе им. Марти (это за Калинкиным мостом, там, где Фонтанка в Финский залив впадает).
Я поняла, почему меня в отделах кадров не брали на работу. Приходила в светлом платьице, с черным бантом на затылке (отращиваю волосы) — ну, и не внушала доверия. А тут, по совету Кости, повязала косынку на голову, надела серый рабочий халат, на ноги — тапочки. И сразу — взяли! Учеником токаря. Работа сменная: неделю в ночь, неделю в день. Смена — 12 часов, без выходных. Я предупредила, что принята в Авиационный институт, показала студенческий билет. На это мне сказали, что с началом занятий меня отпустят. Вышла на работу в ночную смену. Прошла через проходную и чуть не заблудилась, пока свой цех нашла. Подъемные краны, рельсы, паровозы, корпуса кораблей на стапелях… А в цехе темно, только светлячками лампы возле каждого станка. И оглушительный грохот парового молота. Дикий лязг и скрежет пилы по металлу (меня всегда корежит, даже если кто вилкой по тарелке скрипнет). Станки стоят не ровными рядами, как я представляла, а группами по 5–6 штук. С трудом видны станки ближайшего участка, а дальше все тонет в темноте. Лица работающих различаются смутно, лишь когда наклоняются к детали, ярко освещены только руки и резец, снимающий с детали блестящие змейки стружки. Гул от станков такой, что невозможно разговаривать — надо кричать в самое ухо. Над головой время от времени с грохотом катится подвесной подъемный кран с грузом (вдруг уронит…).
Пока разыскивала свой участок, меня несколько раз в упор засвечивали лампочками — разглядывали, и я тогда совсем ничего не видела и останавливалась. Хорошо, что меня взялась проводить женщина, которая собирает в тележку стружку и вывозит из цеха. Мой наставник — токарь седьмого разряда Петр Иванович Молочник. Не старый еще. Но какой-то очень стеснительный. Отвел меня к свободному станку (ДИП-200), начал объяснять, где шпиндель[17], где суппорт[18], но увидев, что я это уже знаю (от Кости), дал задание «обдирать» заготовки. Постоял, пока я управилась с одной, и ушел на свое место. Работа эта однообразная и не очень приятная: ржавую болванку, размером в три стакана, закрепляешь, включаешь станок на малую скорость, и резец снимает окалину. Ржавая пыль, стружки летят в глаза, в нос (в очках почему-то никто не работает, и мне не дали тоже). Не хватает сил туго закрепить деталь, она быстро разбалтывается и начинает «бить» по резцу. Приходится выключать станок и все начинать сначала.
На соседнем станке работает мальчишка из ремесленного училища, лет четырнадцати, наверно, маленький, стоит на ящике. Но работает легко, даже с лихостью какой-то, и посмеивается, видя, как я буквально повисаю всей тяжестью на ключе, когда закрепляю деталь. Подошел вразвалку, посмотрел: «Эх, какие же у тебя ручки-то махонькие…». Взял ключ и сам закрепил и ошкурил болванку на большой скорости так, что она задымилась. Включил подачу эмульсии (белая жидкость, льется на металл, чтоб охладить деталь), и стала заготовка красивой, будто никелированная. Сказал, чтоб и дальше с эмульсией работала — опилок меньше летит и руки целее будут. И чтоб скорости не боялась. А если понадобится что — достаточно лампочкой в его сторону посигналить (она на гибком шланге укреплена). Зовут его Степа. Так у меня стало сразу два наставника. После наглядного урока мне сразу легче и интереснее стало работать, и к полуночи, когда делали перерыв на десять минут и слушали сводку с фронта, у меня на металлическом стеллаже возле станка лежали в три ряда блестящие заготовки (это для минометов детали). Мой мастер (старший) подошел, похмыкал и ушел к своему станку, ничего не сказав. Ночью была тревога, завыли сирены, но никто не выключил станков, и я не слышала, когда был отбой. Обед в два часа ночи, на 30 минут. Устала ужасно. Сидела, прислонившись к стене, на куче стружек, покрытых брезентом, вместе со всеми запивала кипятком свой домашний завтрак (у меня хлеб с селедкой был и зеленый лук — хотела Степку угостить, да он на время перерыва исчезает). Тошнит от запаха машинного масла — пропахло им все вокруг, и руки, и халат. Очень хотелось спать. После перерыва работать значительно труднее: все плывет перед глазами, слепит блеск деталей, страшно заснуть и упасть на станок. Часа в три уже не было сил — ходила в умывалку, мыла лицо, но ничего не помогало. Когда начала совсем клевать носом, вдруг мне в плечо шлепнул комок стружек — я так и дернулась в сторону. Оглянулась, смотрю — Степка своей лампочкой мне маячит. Позвал идти с ним в «точилку», где резцы точат. Я пошла, посмотрела, какие бенгальские огни получаются при заточке резцов об огромные жернова точила. Но сама затачивать побоялась — мне это Степка делает. Рядом с точилкой хозяйственный закуток: там навалены горы метелок из прутьев и отдельно — палок к ним. Здесь сравнительно тихо, а визг пилы кажется терпимым, и я его почти не замечаю. Степка скомандовал, чтобы я прилегла и поспала минут десять — он разбудит, а сам устроился под скамейкой, где у него припасена дерюжка, чтоб укрыться: даже если кто зайдет и сядет на скамью, то не заметит.