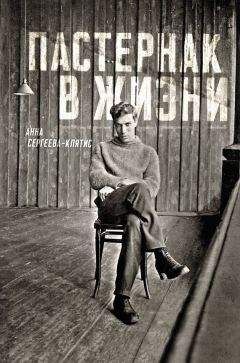Время работы над первыми главами «Спекторского» Е.Б. Пастернак описывает как счастливое для всей семьи: «Отчетливо помню, как я просыпался солнечным утром от маминого звонкого смеха и, не спрашиваясь, бежал за перегородку к родителям. Мама лежала в постели и смеялась, а папа Боря стоял в большом тазу, поставленном на сложенные на полу старые холсты, и обливался из кувшина холодной водой. Пожалуй, это первое и самое счастливое впечатление из того, что мне запомнилось. Так начиналось каждое утро»{170}. Однако чтобы прийти к этому благополучию, и муж, и жена должны были пройти через серьезный кризис.
Одна из причин кризиса, обострившаяся после рождения ребенка, уже описана выше. Стремление Евгении Владимировны поскорее вернуться в профессию, конечно, встречало массу препятствий: маленький сын, много занятий по хозяйству, отсутствие денег, нехватка элементарных вещей, продуктов, лекарств, слабое здоровье (она еще в ранней юности перенесла туберкулез и опасалась его возвращения). И хотя Борис Леонидович нисколько не препятствовал намерениям жены, а, наоборот, всячески пытался ободрить ее и помочь, начались семейные ссоры. Их подстегивали не просто продолжающиеся, а развивающиеся по нарастающей эпистолярные отношения Пастернака с Цветаевой. Своего восхищения перед ней и духовной близости, которая чувствовалась в переписке, Борис не скрывал от близких, что давало Евгении Владимировне основания воспринять ее как роман. Чего стоит, например, такое признание Пастернака, адресованное Марине Цветаевой весной 1926 года: «Я люблю тебя так сильно, так вполне, что становлюсь вещью в этом чувстве, как купающийся в бурю, и мне надо, чтобы оно подмывало меня, клало на бок, подвешивало за ноги вниз головой, я им спеленут, я становлюсь ребенком, первым и единственным, мира, явленного тобой и мной»{171}. И параллельно с этим признанием — другое: «Моя жена порывистый, нервный, избалованный человек. Бывает хороша собой, и очень редко в последнее время, когда у ней обострилось малокровье. В основе она хороший характер. Когда-нибудь в иксовом поколении и эта душа, как все, будет поэтом, вооруженным всем небом. Не низостью ли было бы бить ее врасплох, за то, и пользуясь тем, что она застигнута не вовремя и без оружья. Поэтому в сценах — громкая роль отдана ей, я уступаю, жертвую, — лицемерю (!!), как, по либреттному чувствует и говорит она. Но об этом ни слова больше. Ни тебе, ни кому другому. Забота об этой жизни, мне кажется, привита той судьбе, которая дала тебя мне. Тут колошмати не будет, даже либреттной»{172}. Исходя из особенностей личности Пастернака, который, несомненно, не был скрытным и замкнутым человеком, можно практически не сомневаться, что не только перипетии переписки с Цветаевой, но и личные чувства, возникшие между ними, обсуждались с Евгенией Владимировной.
Получив с большим трудом заграничный паспорт и германскую визу, Е.В. Пастернак с сыном Женей в июне 1926 года поехали в гости к родителям и сестрам Бориса. Сам Пастернак не смог справиться с материальными трудностями и присоединиться к семье, да и получить визу теперь уже было совсем не так просто, как в 1922 году, — железный занавес медленно, но тяжеловесно опускался. Евгения Владимировна уезжала с тревожным чувством, продолжая в письмах прерванный с мужем нелицеприятный разговор, который вела до отъезда в течение последних месяцев. Одной из главных болевых точек этого разговора была Цветаева: «Ты думаешь, что судьба свела твое имя с Мариной, я — что это ее воля, упорно к этому стремившаяся»{173}. Экспансия Цветаевой в ее собственную семейную жизнь воспринималась не иначе как нападение, от которого нужно было защищаться. Пастернак по этому пункту разногласий давал объяснения, которые звучали не вполне убедительно: «Как рассказать мне тебе, что моя дружба с Цветаевой один мир, большой и необходимый, моя жизнь с тобой другой еще больший и необходимый уже только по величине своей, и я бы просто даже не поставил их рядом, если бы не третий, по близости которого у них появляется одно сходное качество — я говорю об этих мирах во мне самом и о том, что с ними во мне делается. Друг друга этим двум мирам содрогаться не приходится»{174}. Нервное и физическое истощение, взаимное недовольство друг другом, ревность, как снежный ком нарастающие бытовые и материальные проблемы — всё это к весне 1926 года обозначило границу, за которой семейная жизнь продолжаться в том же русле не могла. Оба были готовы к разрыву.
Отсутствие Евгении Владимировны (она вернулась в Москву в конце сентября) оказалось плодотворным для семейных неурядиц. Не сразу, но постепенно в письмах между супругами было достигнуто соглашение, которое подкреплялось их обоюдным желанием продолжать совместную жизнь. Отчасти это произошло потому, что Борис Леонидович прервал переписку с Цветаевой — не столько по настоянию жены, сколько по инициативе самой Марины Ивановны. С ней Пастернак тоже считал возможным и естественным делиться своими чувствами — в том числе и к уехавшей за границу жене, отношения с которой переосмысливал. Цветаева, следуя своему страстному темпераменту и сильно развитому собственническому инстинкту («двух заграниц не бывает»), фактически обозначила конец переписки. Переписка вскоре возобновилась, но уже несколько в иной тональности. Еще в большей степени на восстановление отношений повлияла добрая воля обоих супругов, в особенности с новой силой осознанное Евгенией Владимировной желание вернуться и быть рядом с Пастернаком, снова принять на себя их общую непростую судьбу. В 1926 году это спасло брак, готовый, казалось бы, развалиться. Как вспоминает Е.Б. Пастернак, «оставив все потуги самоутверждения и отстаивания самостоятельности, мама положила все силы на устройство нашей семейной жизни с возможным уютом и, главное, с заботой о муже, в которой он так нуждался»{175}. Следующие за описанными событиями годы, несмотря на жизненные неурядицы, творческие кризисы, опасности политического свойства, в целом можно назвать счастливыми с точки зрения личной, семейной жизни Пастернака. Казалось бы, всё наладилось, кризис был преодолен. Тем трагичнее переживались их участниками те события, которые произошли в 1929 году.
З.Н. НейгаузЗима 1929/30 года была очень тяжелой: Евгении Владимировне, которая заканчивала художественный институт ВХУТЕИН[18], предстояло защитить диплом, дававший право художнику официально работать, получать заказы. Конечно, в выборе темы дипломной работы выпускники были не вольны. Актуальность и социальная значимость стояли на первом плане среди прочих критериев выбора. Пастернак сообщал в письме отцу: «Она изобразила работу в кузнечном цехе металлургического завода (нечто вроде Менцеля при колористической гамме твоих первых работ). Работала на самом заводе, но в движеньи это было трудно и дни были темные, а дома ей негде мольберт поставить»{176}. Из этого описания видно, насколько тяжелы были условия работы, домашняя обстановка их совершенно не предоставляла. Евгения Владимировна дописывала картину в мастерской института. За зиму она измучилась, похудела, снова возникла угроза возвращения туберкулеза.