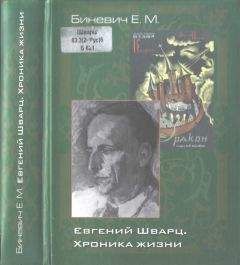Н. П. Акимов, находившийся с Театром комедии в Таджикистане, усиленно приглашал к себе. Казалось бы, все складывается хорошо: Шварц, правда, удалялся от Ленинграда, но, попав в творческую среду, смог бы работать плодотворно.
Еще недавно он писал, что его мысли о собственной слабости — нервного происхождения. Оказалось — совсем не нервного. Когда все было готово: достали с громадными трудностями билеты, уложили вещи, сдали карточки, Шварц, пройдя все предотъездные хлопоты, вдруг понял, что истратил все силы и ему не одолеть дальнюю дорогу. «Я обнаружил вдруг, что мне, пожалуй, не доехать, — писал он, — а если и доехать, то на новом месте я буду очень плохим работником, и я струсил и отступил».
Напугало его больше всего то, что он будет на новом месте плохим работником.
Подписано это горькое письмо было так — «известный путешественник Е. Шварц». Я вспомнил реплику из его пьесы «Одна ночь» — «шутки шутят в условиях осажденного города». Юмор не покидал его ни при каких обстоятельствах.
Жизнь строит подчас неожиданные сюжеты. Я, только что мысленно прощавшийся со Шварцем надолго (шутка ли, судьба бросает его на другую окраину страны — на Памир), вскоре встретился с ним в Москве. О встрече друзей позаботилось ведомство — Комитет по делам искусств вызвал нас на драматургическое совещание.
Я опоздал к открытию совещания, по причинам вполне уважительным.
Я вошел в зал во время выступления одного известного режиссера. Он призывал драматургов писать патриотические пьесы. Он не говорил, а почти кричал, отчаянно жестикулировал, вел себя так, как будто звал всех ринуться в атаку. Я начал оглядывать зал и отыскал глазами Шварца. Он тоже заметил меня, мы переглянулись и улыбнулись, как заговорщики.
Следом за режиссером вышел литератор и начал бубнить по бумажке:
— Мое творчество… Я создал… Моя биография… Тут Шварц не выдержал и пошел к выходу.
В коридоре было оживленней, чем в зале. Жизнь разбросала людей по разным фронтам и городам, и они, встретившись после долгой разлуки, никак не могли наговориться.
— Тот — артист, он не может не играть, — возмущался Шварц. — Но мог бы играть по системе Станиславского, а не каратыгинствовать. Но наш‑то хорош! Видимо, считает ниже своего достоинства пользоваться обыкновенными словами. К чему «творчество», когда можно сказать «работа»? Почему «создал», а не «написал». Обожают говорить красиво. Ну шут с ними! Почему вы опоздали? Неужели в Ленинграде плохая погода?
Мы стояли у окна, куда врывалось весеннее солнце.
Я рассказал ему, что в день моего отъезда Ленинграду досталось и с воздуха, и с земли. Я ехал на аэродром мимо горящих зданий. В наш транспортный самолет усаживался солдат — стрелок, деловито проверяя, безотказно ли действует пулемет. Мы поднялись, но нас сразу же вернули обратно — погода была хорошая, но не летная.
— Самая отвратительная манера вранья — вранье с подробностями, — усмехнулся Шварц. — Хватит вести среди меня агитационную работу!
— К сожалению, я ничего не преувеличиваю.
— Когда вы наконец пустите меня в Ленинград? Живут же там люди! Я сам буду пробиваться в Ленинград. Я там нужен. Вы начинаете репетировать мою пьесу, я должен быть рядом. Завтра в Комитете по делам искусств я сам попрошу, чтобы меня направили в Ленинград.
Пьесу «Одна ночь» наша труппа приняла очень хорошо. Был назначен режиссер, распределены роли. Художник В. В. Лебедев увлекся пьесой и написал превосходные эскизы декораций и костюмов. Репетиции не начинались из‑за того, что задерживалось разрешение на постановку пьесы.
Мы отправились с Шварцем в Комитет выяснить — почему задерживается разрешение. Наш разговор с театральным начальником был длинным и тягостным. Он очень долго говорил о блокаде Ленинграда. О пьесе он сказал совсем мало — величественная блокада Ленинграда должна быть воплощена в жанре монументальной эпопеи, а в пьесе «Одна ночь» отсутствует героическое начало, ее герои — маленькие люди, и этот малый мир никому не интересен.
Я пробовал возражать. Шварц сидел молча. Начальник вернул Шварцу пьесу, а мне дал другую.
— Вот, рекомендую познакомиться!
— Почему вы молчали? — спросил я, когда мы вышли на улицу. — Вдвоем мы переубедили бы его.
— Не думаю. Спорить с ним — это все равно, что возражать радиорепродуктору. Вы ему что‑то говорили, а он продолжал свое. И потом он все время говорил — «мы считаем». Не «я», а «мы». И сколько человек стоит за ним, кто входит в это понятие — «мы»? И зачем так подробно он говорил нам о блокаде, словно мы не нюхали ее, а приехали из Калифорнии… Не нужен я в Ленинграде, — сказал он, помолчав.
— Я отговариваю вас от Ленинграда не потому, что там опасно. Неизвестно, где и когда подстережет нас смерть.
Вам надо написать «Дракона». А в таких условиях вы его не напишете!
— «Дракона» я напишу даже в аду.
— Вы напишете его в Москве! Вам надо хлопотать, чтобы вас оставили здесь. Уже многие писатели вернулись из эвакуации в Москву. Вас наверняка оставят.
— В порядке компенсации за убитую пьесу, — усмехнулся он. — А что же за пьесу он вам рекомендовал? Покажите, это, наверное, образец, по которому надо равняться! Как хочется научиться писать рекомендуемые пьесы!
Мы стали рассматривать рекомендованную пьесу. Называлась она «Власть тьмы». Что такое: время ли сейчас для толстовской драмы? Но оказалось, что толстовской вывеской прикрывалась примитивная ремесленная пьеса о захвате Ясной Поляны немцами. Пьеса, напоминавшая пародию, открывалась списком «действующих лиц» и «действующих вещей» — халат Л. Н. Толстого, туфли Л. Н. Толстого и т. п.
— Это же находка! — улыбнулся Шварц. — Не написать ли мне пьесу об Иване Грозном под названием «Дядя Ваня». Нельзя ли подписать договорчик? И начальство одобрит!
Именно тогда началась «реабилитация» Ивана Грозного. Я напомнил Шварцу, что это все он уже предугадал — в его пьесе для детей «Клад» был сторож из заповедника — Грозный Иван Иванович.
Следующее письмо пришло не из Москвы, и не из Кирова, а из Таджикистана.
«В Москве надо было, по крайней мере, спрятать самолюбие в карман, — писал Шварц, — забыть работу, стать в позу просителя. А я человек тихий, но самолюбивый. И даже иногда работящий. И легко уязвимый… Выносить грубость сердитых и презрительных барышень — для меня хуже любого климата. И вот мы уехали в Сталинабад».
Следующее письмо было совсем мажорным — Шварцу некогда было отдыхать от дальней дороги, не было времени на акклиматизацию в непривычном и трудном климате, он сразу же сел за работу. «Дракон» был написан очень быстро. Он сообщал, что Акимов уже уехал с пьесой в Москву. Можно было представить, в каком тревожном состоянии пребывает Шварц, но письмо его было спокойным: «Пока что я не жалею, что повидал настоящую Азию. Пишу. А это, честное слово, извините за прописную истину, всетаки самое главное. В настоящее время я занят пьесой под названием «Мушфики молчит». Мушфики — это таджикский Насреддин. Когда мы увидимся? Вести с фронтов подают надежду, что скоро».