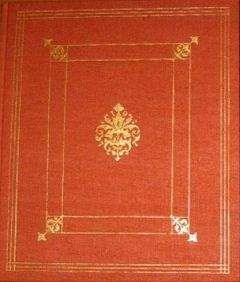Ознакомительная версия.
Пожалуй, наиболее неожиданным и впечатляющим отзвуком «демонического» образа Пикассо было письмо юного А. Родченко, принявшего на веру булгаковскую метафорику. Во время работы над серией беспредметных композиций осенью 1915 года, то есть сразу после выхода августовской книжки «Русской мысли», он писал будущей жене из Казани в Кострому: «Теперь я занялся графикой, но в ней нет человеческих лиц, в них нет ничего… В ней мое будущее. Я нынче сотворил чудовищные вещи… Я буду соперником Пикассо в обладании дьявола… И посмотришь…»[330]
Примером воспроизводства мотивов и образов религиозных мыслителей на уровне журналистского клише служит статья М. Шагинян, к тому времени прошедшей через увлечение идеями З. Гиппиус и Д. Мережковского. В 1915–1916 годах в она жила в Ростове-на-Дону и была корреспондентом целого ряда провинциальных изданий. В феврале 1916 года в газете «Баку» ею были опубликованы два очерка о щукинском собрании, один из которых рассказывал о Пикассо. На протяжении всей статьи демоническое начало в творчестве художника нарочито педалируется и, в сущности, оказывается единственной его содержательной характеристикой: «Только побыв в этой комнате и надышавшись ее страшным воздухом, вы понимаете, что цепенящая сила впечатления получена вами не из области искусства, и что окружающие вас картины уже не художественны. …они воплотили чистый, отвлеченный элемент зла»; «Пикассо… проделывает со всем видимым миром своего рода геометрическое изнасилование»[331].
Шагинян оперирует априорно сложившимся образом Пикассо и в соответствии с ним толкует конкретные произведения. Наиболее очевидно это тогда, когда журналистка делает явную ошибку, принимая одну картину за другую: описывая поразившую ее «Пьяницу абсента» (так переведено французское название “Buveuse d’absinthe” – «Любительница абсента», 1901, Эрмитаж), журналистка нагнетает ощущение ужаса: «Эта зловещая картина написана в зеленых тонах – цвета разлагающегося мяса. Она изображает высокого человека (если только это можно назвать человеком), двигающегося не вперед и не назад, а как бы прямо на вас. Части тела его все в кубах и в геометрических линиях; эта масса симметричных частей ничем, как будто, меж собой не связана, но все-таки с невероятным трудом (как груда костей в скелете, обычно изображающем у нас Смерть) держится вместе и не рассыпается… Нет, главное, почему вам страшно, – это способность этих расчлененных масс к согласному движению…» Совершенно очевидно, что это описание не имеет ничего общего с небольшой «Любительницей абсента», висевшей в комнате Пикассо в нижнем ряду на стене против окон. Ближе всего оно к гораздо более крупному «Танцу с покрывалами» (так картина называлась в каталоге собрания), который был приобретен в 1913 году и, как видно на фотографии щукинской экспозиции, располагался на левой стене между дверью и окном[332]. Но Шагинян не обращает внимания на несоответствие описания и сюжета картины, и с помощью некоей «восточной легенды» предлагает ее прочтение, вполне согласующееся с булгаковским образом Пикассо: «Кто-то другой (страшный, ибо пагубный) вошел в него (уснувшего человека. – И. Д.) через его дыхание и завладел его существом … И человек проснулся безумным и люди стали называть его “одержимым”. “Искусство” Пикассо и есть своего рода одержание …мы можем назвать художественное творчество Пикассо проводником этого зла в мир, средой для его воплощения…»
Впрочем, в отличие от избегающего окончательного приговора философа, молодая журналистка находит для «одержимости» Пикассо прозаическую медицинскую причину: «…как мог Пикассо невозбранно пуститься в такой путь и как выносит он такое искусство? Заглянула в справочник и узнала: Пикассо еще жив, но он сошел с ума и сидит теперь в больнице для умалишенных». Трудно сказать, какой «справочник» имеется в виду. Единственный, насколько можно судить, общедоступный путеводитель, включавший описание щукинской коллекции, на трех страницах повествует о полотнах Пикассо, но не словом не говорит о его заболевании[333].
Но «безумие» Пикассо к этому времени стало общим местом отечественной критики: пластическая революция кубизма подрывала фундаментальные представления русского зрителя об искусстве и наиболее простым и успокоительным образом могла быть объяснена сумасшествием. В статье Бенуа говорилось о слухах по поводу душевного здоровья собирателя: «Новые приобретения С. И. Щукина привели к возобновлению разговоров в Москве о том, что он не совсем в своем рассудке…»[334] Но уже Анреп отмечает, что «многие» видят истоки кубизма в «душевной болезни» живописца[335], а Чулков ссылается на авторитет безымянных врачей: «Пикассо понимал, что если он не успеет или не сумеет запечатлеть то, что ему сообщают из иного мира, он погибнет неизбежно, раздавленный тяжестью нечеловеческого познания. И, наконец, это случилось. Психиатры утверждают, что Пикассо сошел с ума. Это значит, что его душа уже не нуждается в психофизическом инструменте, который мы называем индивидуальностью… Пикассо преодолел психологизм»[336]. Чулков акцентирует безумие только для того, чтобы признать его несущественным по сравнению с гораздо более глубокими причинами катастрофы современного творчества. Булгаков видит в сумасшествии одну, но не самую главную опасность: «…ждет ли его гибель, не только эмпирическая, в виде надвигающе гося безумия, но и духовная…?»[337]. Очерк Шагинян свидетельствует о том, что плоско-медицинское объяснение кубистического поворота отвечало пониманию определенной части публики. Подтверждение тому можно найти, к примеру, в эпизоде из повести Б. Зайцева «Голубая звезда». Экскурсовод, с энтузиазмом рассказывавший о художнике, сталкивается с вопросом: «А правда… что Пикассо этот сошел с ума?»[338] Для писателя, впрочем, эта реплика простеца служит голосом здравого смысла: ею заканчивается эпизод посещения главными героями щукинского собрания. Христофоров и Машура решают уйти, после чего на зимней московской улице между ними происходит объяснение в любви – русское, родное, естественное преодолевают искусственное и чужеродное: «Нет не принимаю я Пикассо. Бог с ним. Вот этот серенький день, снег, Москву, церковь Знамения – принимаю, люблю, а треугольники – бог с ними. … – Я вас принимаю и люблю…»[339]
Ознакомительная версия.