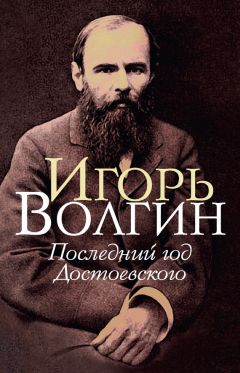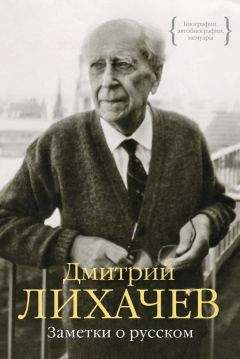Зло громко названо, но словарь для обличения зла выбран несколько необычный. «Эти юные русские силы, увы, столь искренно заблудившиеся (подчеркнуто нами. – И.В.)» – подобные эпитеты плохо сочетаются с подлежащим безоговорочному осуждению предметом.
Ещё одна странность: в тексте адреса наличествуют, казалось бы, незаметные, но на самом деле весьма существенные различения. «Злодейство» изображается автором не по обычному охранительному шаблону – как некая мрачная, сомкнутая и нерасчленённая сила, а, так сказать, многоступенчато. Вначале «явились люди не верующие ни в народ русский, ни в правду его»; затем пришли упомянутые «нетерпеливые разрушители»; эти последние, в свою очередь, «подпали наконец под власть силы тёмной, подземной, под власть врагов имени русского, а затем и всего христианства». Таким образом, намечены три звена, вовсе не одинаковые и не равные друг другу. И если два последних расшифровываются довольно просто (это радикально настроенная молодёжь и воздействующие на неё «нелегалы», профессиональные цареубийцы), то первая, смутно обозначенная ступень этой триады заслуживает особого внимания.
Ибо здесь подразумеваются именно те, кто, по мнению Достоевского, являются духовными предтечами современного нигилизма – нигилисты нравственные: прекраснодушные (и равнодушные) люди сороковых годов.
Приведём эту мысль так, как она была выражена в первоначальной редакции (не вошедшие в печатный текст слова поставлены в квадратные скобки): «Рядом с истинными и горячими сердцем слугами Отечеству явились люди [равнодушные сердцем, ленивые], не верующие ни в народ русский, ни в правду его, ни даже в Бога его, [а вслед за сими пришли не верующие даже и в человечество и живущие только чтоб как-нибудь дожить свои годы спокойнее»[300] ][301]. От них-то и произошли «нетерпеливые разрушители».
Вина если и не снимается с революционеров-семидесятников, то в значительной мере перекладывается на всё образованное общество в целом, не исключая «верхов».
Разумеется, такая «обоюдоострая» трактовка не могла вызвать у руководителей русской правительственной политики должного идеологического удовлетворения. Не потому ли первоначальный текст адреса подвергается последующей правке?
На сохранившемся беловом списке Анна Григорьевна оставила чёткую пояснительную запись: «Адрес Славянского Благотворительного Общества, поднесённый им Е<го> И<мператорскому> В<еличеству> Государю Императору Александру II 19 февраля 1880 года, в день двадцатипятилетия Его царствования, был составлен по желанию Совета Славянского Общества Ф. М. Достоевским, товарищем Председателя Общества. Адрес этот был представлен А. А. Киреевым на просмотр тогдашнему Министру Внутренних Дел Макову. Министр, просмотрев адрес, просил сделать некоторые изменения, указав отдельные места, найденные им неудобными. Настоящий адрес, списанный с подлинника, есть первоначальный»[302].
Подлинник ныне находится в той же архивной папке. Отдельные места отчёркнуты на полях карандашом; рядом кратко помечено: «снять». Во исполнение министерской воли рукой Достоевского внесены соответствующие исправления.
Одобрения Макова не вызвало и место о славянском единении («о единении только общими фразами» – указал на полях министр); по его требованию были сняты также слова о человечестве, которое предчувствует уже «своё великое будущее разрушение»[303].
Итак, в качестве редактора сочинённого Достоевским текста выступает один из высших сановников Империи – Лев Саввич Маков[304]. Его замечания идут по трём направлениям.
Во-первых, он сглаживает слишком дробную классификацию различных степеней нигилизма и ослабляет указания на его духовные истоки (все эти литературные тонкости раздражают власть, предпочитающую видеть перед собой злобного, примитивного и единообразного врага). Во-вторых, – в видах высшей политики – приглушаются панславистские мотивы. И, наконец, убирается эсхатологический момент, вовсе не уместный в юбилейном словоговорении.
Впрочем, в окончательной редакции осталось упоминание об «исходе всей тоски русской»: фраза выдаёт автора.
Однако автора выдаёт и многое другое.
В сугубо ритуальный текст Достоевский умудряется вложить практически полезный, можно даже сказать, утилитарный смысл. Отсюда повышенная идеологичность документа: он – своего рода «подсказка» верховной власти. Достоевский пытается «внедрить» в сознание монарха ту нехитрую формулу, о которой уже упоминалось выше: «царь – отец, народ – дети». А раз так, то «дети всегда придут к Отцу своему безбоязненно, чтобы выслушал от них с любовью о нуждах их и о желаниях…». Отсюда уже один шаг до «позовите серые зипуны» – того, что будет всенародно высказано через год, в последнем «Дневнике».
Автор адреса явно торопит события.
«Юбилейное» отодвигается на второй план, зато самым настоятельным образом подчёркивается один момент, выглядящий в произведениях подобного жанра двусмысленно и чужеродно: «Мы верим в свободу истинную и полную, живую, а не формальную и договорную, свободу детей в семье отца любящего и любви детей верящего, – свободу, без которой истинно русский человек не может себя и вообразить»[305].
Вспомним: «Ещё больше буду слуга ему, когда он действительно поверит, что народ ему дети. Что-то очень уж долго не верит».
То, что как руководство к действию обозначено в адресе Александру II, через несколько месяцев подвергается жёсткому сомнению – в записи «для себя». Ибо формула «отец – дети» – не столько признание существующей исторической данности, сколько указание на историческую возможность – желаемую, долженствующую осуществиться.
В послании, адресованном российскому самодержцу, Достоевский делает главный упор на своей этико-исторической программе. Русской монархии предлагался идеал, не совместимый ни с её собственной исторической сутью, ни с её действительными политическими намерениями.
Это прекрасно понял не кто иной, как высочайший адресат.
Верноподданный нигилист
Официальная версия гласила: «Адрес этот был доложен Государю Министром внутренних дел, и Государь повелел: “благодарить Славянское общество за выраженные им верноподданнические чувства”»[306].
Однако сохранилось ещё одно – неофициальное, но в высшей степени ценное свидетельство. Анна Григорьевна (женщина замечательно аккуратная) на дошедшей до нас рукописи адреса (как раз на первоначальной его редакции) сделала следующее примечание: «Этот адрес, исправленный, по указанию Министра Внутренних дел Л. С. Макова был представлен Государю Императору Александру II 19 февраля 1880 года. По словам министра, Государь по прочтении адреса “соизволил” выразиться, что “Он никогда не подозревал Славянское Благотворительное Общество в солидарности с нигилистами”»[307].
Поразительный факт: адрес, подвергнутый министерской редактуре, даже в таком виде вызвал августейшее недовольство (или, по крайней мере, августейшую иронию). Александр II оказался более проницательным читателем, нежели его министр[308].
И – политически более «зрелым», чем все Славянское благотворительное общество, где «проект адреса был единогласно одобрен и покрыт многочисленными подписями», чему, возможно, способствовало ораторское искусство Достоевского, который, как засвидетельствовал позже К. Н. Бестужев-Рюмин, «наэлектризовал все собрание, читая своё исповедание веры»[309].
До председателя Славянского благотворительного общества, по всей вероятности, ещё не дошёл императорский сарказм. Зато сарказм этот, надо полагать, хорошо запомнился министру внутренних дел, оказавшемуся, несмотря на все свои усилия, столь некомпетентным редактором и цензором. Маков не разобрался в истинной подоплёке слегка подправленного им документа и со спокойной совестью препроводил его дальше. За что и получил высочайший нагоняй[310].
Правда, упрекая Славянское благотворительное общество в «солидарности с нигилистами», государь скорее всего шутил. Однако в монаршей (как и во всякой) шутке была доля истины. Ибо то, что от лица Общества осмеливается предлагать Достоевский, по своему нравственному радикализму «рифмовалось» с радикализмом политическим.
Эту «рифму» остро чувствовали некоторые проницательные современники.
Парадоксы графа де Воллана
Уже упомянутый ранее граф де Воллан (публицист и дипломат, человек достаточно консервативных убеждений) пишет в своих «Очерках прошлого»: «Он фурьерист», – сказал про него Суворин. И совершенно правильно. Пускай внимательно прочтут его творения и убедятся, что он радикальнее Щедрина… Люди, которые начитаются Достоевского, начнут требовать коренного исправления социального строя и не удовольствуются буржуазным парламентаризмом. Они поставят вопрос ребром, чтобы не было бедности».