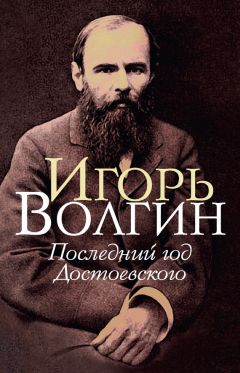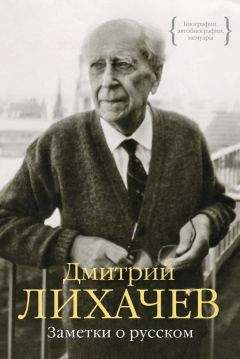Итак, современник Достоевского и безусловный поклонник его таланта полагает, что автор «Бесов» радикальнее самого Салтыкова-Щедрина (не говоря уже об участниках тургеневского обеда!). Мнение достаточно парадоксальное: тем более что де Воллан толкует о «коренном исправлении социального строя», иначе – о полном пересоздании общественных отношений.
Де Воллан передаёт слова Достоевского о том, что «он когда-то был за петрашевцев, но давно излечился, и от души ненавидит всех революционеров». Допустим, что эти слова действительно были произнесены собеседником графа (они вполне могли быть им произнесены). Однако отношения Достоевского с русской революцией неизмеримо сложнее его собственных самооценок.
То, о чём предпочли бы умолчать многие единомышленники де Воллана, вдруг выговаривается им самим с поразительной откровенностью. «В случае революции, – пишет граф, – Достоевский будет играть большую роль».
Что же имеет в виду автор этого поистине ошеломляющего заявления (которое, как ни странно, оставалось практически неизвестным: нам не удалось встретить ни одного упоминания о нём в литературе)? Уж, наверно, не то заманчивое обстоятельство, что Достоевский лично пошёл бы на баррикады или же – в согласии со своей «ненавистью» к революционерам – против баррикад. Подразумевается совсем иное: центральная роль Достоевского в той предполагаемой нравственной ситуации, которую может создать русская революция.
Он – человек экстремы, человек последних вопросов – и, конечно, он будет «выброшен» социальной катастрофой на историческую авансцену. Волею судеб он (или его создания) должен очутиться в горниле раскалённых общественных страстей.
В первую очередь имеется в виду его исключительный духовный авторитет.
«Он овладел молодыми умами, – продолжает де Воллан, – он говорит сердцу человека, возвышает вас, его проповедь страданий как нельзя более подходит к общему настроению молодёжи. Щедрин – это наш Вольтер, а Достоевский – Руссо, и влияние его скажется через двадцать, тридцать лет».
Прогноз чрезвычайно знаменательный, равно как и сопоставление Достоевского с Руссо – в плане исторического кануна. Но позволительно спросить о другом.
Почему именно «проповедь страданий», то есть как раз то, в чём обычно принято упрекать Достоевского, так «подходит к общему настроению молодёжи»? Не потому ли, что она, эта проповедь, отвечает тайной, неодолимой и неизбывной потребности – «жертвовать собой за правду» – тому, что Достоевский определял, если вспомнить, как «национальную черту поколения»?
Страдание воспринимается его молодыми читателями не только как средство личной нравственной гигиены, но и как общественный долг.
Вспомним: «Его бы казнили».
«…Учение Достоевского, – заключает де Воллан, – так же революционно, как и учение Христа, несмотря на то, что в нём воздаётся Кесарю – кесарево».
В адресе Славянского благотворительного общества кесарю воздаётся кесарево (хотя при этом сам «кесарь» превращается в кого-то иного). Но, может быть, «заодно» и меч кесаря удостаивается авторского благословения?
Тут следует возвратиться к злополучной фразе об «уничтожении народа», к сюжету, который уже рассматривался выше.
Если верить де Воллану, Достоевский, приведя вышеуказанную фразу, добавил: «Они (то есть авторы этой фразы. – И.В.) похожи на гг. генералов, вроде Гурко, которому ничего не значит сказать: “я сошлю, повешу сотню студентов”. Да, они такие же, как г. Гурко»[311].
Это ещё одно сенсационное заявление.
Иосиф Владимирович Гурко – герой Русско-турецкой войны, в 1879 году был назначен генерал-губернатором Петербурга. На этом посту он всячески стремился поддержать свою боевую репутацию: например, подписал смертный приговор Дубровину. Начальствуя в столице, генерал не останавливался перед самыми крутыми административными мерами (правда, заменив покушавшемуся на Дрентельна Мирскому смертную казнь вечной каторгой, герой Шипки удостоился царской реплики, что в данном случае он «действовал под влиянием баб и литераторов»[312]).
Имя Гурко названо, как помним, рядом с редактором «Отечественных записок»: трудно вообразить более нелепое сочетание! Выходит, что Достоевский ставит на одну доску и тех, кого мы привычно именуем революционными демократами, и тех, кто по долгу службы им противостоит.
Угроза генерал-губернатора, кем-то Достоевскому переданная (уж не его ли высокопоставленными знакомыми?), угроза, подтверждаемая к тому же практическими действиями, вызывает у него такой же ужас и отвращение, как и фантастическое намерение «прогрессистов» «уничтожить народ».
Итак, правительство оказывается не менее виновным, чем те, против кого направлены его беспощадные удары. И русская революция, и русская реакция ставятся на одну доску: они проистекают, по мнению Достоевского, из одного общего источника. Главная причина того и другого – вековой разрыв с народом. Отсюда следовало, что взаимоистребительное противоборство ни к чему не приведёт: оно бессмысленно, ибо не устраняет корень зла.
Он не сочувствует прибегающему к драконовским мерам правительству в той же мере, в какой не сочувствует жестокому натиску террористов. Он не принимает их борьбу как историческую необходимость.
Он вынашивает собственное решение.
Да, в адресе Славянского благотворительного общества кесарь получил кесарево. Но получил сравнительно немного. Взамен же от него потребовали гораздо большего: его попытались обратить в чужую веру.
Но государство вновь не пожелало перевоплощаться в «церковь». За царской шуткой о «солидарности с нигилистами» проглядывало плохо скрываемое недовольство теми идеальными умствованиями, которые никоим образом не соответствовали видам государственной власти.
Ибо в феврале 1880 года Александру II было не до смеха.
Источники информации
Остаётся выяснить последнюю деталь: каким образом и когда высочайший отзыв (совершенно неофициальный) стал известен Анне Григорьевне Достоевской.
Исходя лишь из почерка, бумаги и чернил, невозможно установить, когда именно Анна Григорьевна дополнила текст адреса своим письменным комментарием. Но думается, что это было сделано через некоторый промежуток времени после самого события, во всяком случае – уже после смерти Достоевского.
Кто же был информатором Анны Григорьевны?
В своей записи она ссылается на слова министра. Однако никаких сведений о её личном знакомстве с Маковым у нас нет (да и вряд ли при этом он стал бы пускаться в такие откровенности). Поэтому естественно предположить, что мнение государя было сообщено министром внутренних дел кому-то из «своих», то есть лицу, близко стоящему к правительственным и придворным сферам.
Анна Григорьевна говорит, что проект адреса был представлен Макову через А. А. Киреева. Очевидно, через него же он был передан обратно – для доработки. Таким образом, именно Киреев служил в данном случае посредующим звеном между Славянским благотворительным обществом и правительственной властью[313].
Можно предположить, что именно Кирееву – как лицу заинтересованному – Маков доверительно сообщил императорское мнение о представленном адресе. Эти сведения не подлежали огласке – и генерал, человек светский, сдержал обещание, надо полагать, данное им министру. Но смерть Александра II, а вскоре и Макова освободила Киреева от данного слова, и он счёл возможным поведать о высочайшей «резолюции» либо самой Анне Григорьевне (которая аккуратно и без каких-либо рассуждений это зафиксировала), либо кому-то из общих знакомых – с последующей передачей той же Анне Григорьевне.
Но справедливо ли полностью исключить предположение, что самому автору адреса ничего не было известно об отзыве государя? Ведь в предсмертном сказанном о царе «что-то уж долго не верит» можно усмотреть следы какого-то личного чувства: обиды, что ли. Не был ли сделан Достоевскому какой-то намёк относительно того, о чём знал Маков и, весьма возможно, Киреев?
Впрочем, роль Киреева как посредника не ограничилась подачей адреса. Через некоторое время он стал участником ещё одного эпизода, который, как представляется, находится в некоторой связи с предыдущим.
Глава VII. Недрёманное око
Загадочный аноним
12 июня 1875 года Анна Григорьевна писала из Старой Руссы в Эмс: «Я решительно не понимаю, почему письмо моё от 31 мая отправлено отсюда 3-го июня, это Бог знает что такое! Поговорю об этом на почте, но вперёд знаю, что ответят какой-нибудь вздор и скажут, что задерживают письма в Петерб<урге>. Уж не Готский ли распорядился доставлять ему мои письма ради наблюдения…»[314]
Имя Готского названо не случайно. Он – едва ли не главный источник тех неожиданных волнений, которые смутили размеренную жизнь Достоевских в Старой Руссе.