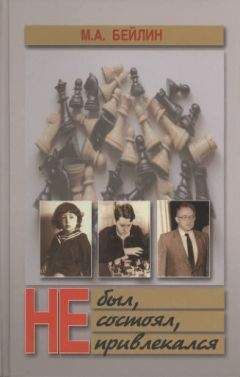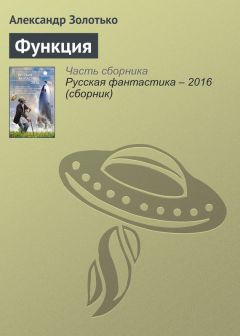В часы моего дежурства в кабину протиснулся невзрачный мужичишка. Пальтецо его было выношено, но, тем не менее, способно сопротивляться времени. Физиономия не чисто выбрита, но терпимо. Улыбка блуждающая, не без смысла. Клиент пришел посоветоваться насчет развода и для начала сообщил, что он работает не то завхозом, не то кладовщиком. Такая хозяйственная деятельность всегда занимает его в те периоды, которые он находится вне Канатчиковой дачи.
Я, хоть и был молод, но не выразил удивления по поводу причастности моего клиента к когорте психически нездоровых. Удивление могло обнаружить недостаточный адвокатский опыт.
Потертый, но неунывающий взял инициативу беседы в свои руки. Я едва успел сообщить ему тривиальные сведения о бракоразводном деле, как он принялся убеждать меня, что раньше разводили гораздо лучше. «Раньше, – рассказывал он, – я приходил в загс, писал заявление, и готово. Из загса слали открытку жене, и конец. Вот я однажды сижу дома, обедаю. Приходит почтальон, приносит открытку. Жена читает – развод. Она мне говорит: „Что же ты, мерзавец, раньше мне ничего не сказал?“ Дескать, я должен был предупредить. А я продолжаю хлебать щи и говорю: „Не люблю напрасных разговоров“.»
Вскоре мой затейник выбрался из клетушки и пошел по каменным длинным коридорам Гостиного двора. И затерялся навсегда. Быть может, он сел в трамвай и поехал на Канатчикову дачу, а может, и в кладовую. Больше я его не видел.
То, что я сообщил ему, он, вероятно, знал. Быть может, просто хотел поделиться своими соображениями.
Простая трагедия
– Ты мало изменился, – сказал мне Борис, приятель юных лет. – Вот только волос стало меньше.
Он вернулся в Москву из мест весьма отдаленных, где провел семнадцать лет. Еще раз пристально взглянул: «Губы изменились, мягче линия была…». Так закончил обзор Борис.
Мне кажется, что глаза художников отличаются от глаз других людей. Про всех говорят, что глаза это зеркало души, а у художников они напоминают инструмент для наблюдения.
В тот момент волос у меня было вполне достаточно, чтобы не думать на тему, что все течет, все изменяется.
В юности Борис был очень видным парнем, гимнастом. Густые светлые волосы гладко зачесаны назад. Открытая улыбка. Собирался стать художником. Серьезно играл в шахматы. Подавал надежды. Затем увлекся играми с девушками. Стал курсантом военного училища. Из Ярославля двое штатских доставили его в отдельном купе поезда в Москву. Оказалось, что ошибся в некоторых девушках. Будто бы их папы были видными врагами народа. И замелькали лагеря. Колыма, Тайшет и другие. Сказал мне, что выжил благодаря умению рисовать. И даже как-то давал сеанс одновременной игры в шахматы в таком «обмундировании» и такой обуви, сделанной зэком из автомобильной шины, которая едва ли встречалась у сеансера когда-либо в многовековой истории шахмат.
Под конец лагерно-ссыльной жизни дослужился до положения художника театра. Полусвободным женился на красивой высокой девушке, голубоглазой татарке, отбывшей срок за контрреволюционную агитацию. (Была тогда в уголовном кодексе такая милая статья – 58 /10.)
Равия, так звали ее, привезла мне в Москву от Бориса письмо. Разыскала меня в юридической консультации. Я написал жалобу, она сама ходила в прокуратуру, хлопотала. Гляделась привлекательной и жизнерадостной. Добилась. Борису разрешили вернуться в Москву. У них родился сын. Борис стал сотрудничать в издательствах внештатным художником. Играл в шахматных турнирах и стал кандидатом в мастера. Жизнь, наконец-то, налаживалась.
Как-то при встрече я пожаловался Борису на сложности, с которыми столкнулся при обмене моей квартиры. Он, исполненный благожелательности, сказал: «Брось ты суетиться. Зачем менять? Жить-то нам сколько осталось?».
И непринужденно рассмеялся. Мудрость лагерника. День прожил, и слава Богу… Полжизни отдал Борис на ее усвоение.
Равия неожиданно и в один момент умерла от кровоизлияния в мозг. Молодая.
Для счастья не хватило времени. Обыкновенная история.
Круги
– Правильно говорить «крУги», а не «кругИ», – мягким и приятным голосом проникновенно убеждал на семинаре доцент криминалистики, обучая студентов премудростям дактилоскопии. Доцент был невысок, широкоплеч и немного нескладен. Голову держал высоко, напрягая бедную шею. Хотел быть стройным. Звали его Емельяном, а по отчеству Ушеровичем. Получался ерш: Пугачев и Шолом-Алейхем. Но это игра слов, а на деле доцент наследовал настырность многих поколений талмудистов. В своих статьях он цитировал зарубежных и отечественных классиков криминалистики, произносил имя австрийской звезды полицейской науки Ганса Гросса, как музыковед имя Бетховена. И не меньше, чем уважение к криминалистике, доцент старался привить студентам любовь к русскому языку. Он ссылался на классика, утверждая часто, что настоящему русскому языку надо учиться в Малом театре и у московских просвирен.
В свободные часы доцент увлекался яхтой. Благородный вид спорта.
На институтском воскреснике, когда разгружали дрова для плохо отапливаемого здания (шла война, и студенты сидели на занятиях в пальто), Емельян Ушерович трудился тихо, но чрезмерно, и вечером лежал с сердечным приступом.
Любовь к цитатам и звучным иностранным именам сделала доцента легкой добычей в период борьбы с космополитизмом. Цитаты из русского гения полицейской науки Буринского ему в вину не вменили, а вот Ганса Гросса припомнили. И никаких просвирен! Его ученик, который стал кандидатом наук в юном возрасте, был толстым и радушным малым и огорчился, лишь когда его – кандидата наук! – не приняли в Высшую Дипломатическую школу – этот самый добряк и воспитанник вплел свой голос в довольно жидкий хор негодующих, когда на заседании ученого совета настал момент ликвидации космополитизма на кафедре криминалистики. Емельяна погнали. Позже погнали ученика. От этого Емельяну не стало легче… Инсульт!
Быть может, московские просвирни сказали бы: хватил кондрашка.
Я встретил доцента много позднее. Он получал пенсию, на партийном учете состоял в юридической консультации, где я работал. Аккуратно приходил на партийные собрания, вежливый, чисто выбритый, тихий. Иногда выступал. В голосе сохранились мягкие убеждающие интонации, но слова… Слова сливались в комки. Он написал заметку в нашу стенную газету. Почему-то вдруг о Пушкине, о его памятнике.
Умер Емельян как-то незаметно, тихо. Будто не хотел кого-либо побеспокоить. До конца старался быть вежливым и правильным. Как речь в Малом театре.