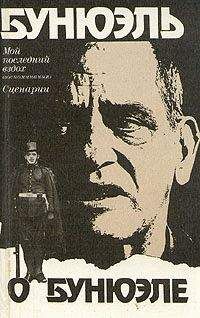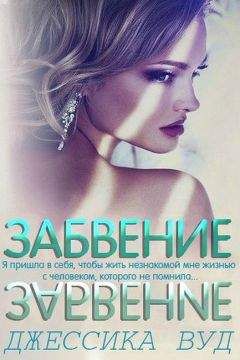Как воспоминание об этом дне у меня сохранился экземпляр «Преследуемого преследователя» с посвящением Арагона, в котором говорилось, как хорошо иногда, «когда чувствуешь, что жить осталось не так долго», иметь друзей, готовых пожать тебе руку, — это было написано пятьдесят лет назад.
Альбер Валантен тоже входил в нашу группу. Он был ассистентом Рене Клера и участвовал в съемках фильма «Свободу нам!», без конца повторяя: «Вот увидите, это подлинно революционный фильм, он вам понравится». Мы отправились на просмотр, но фильм всех разочаровал, показался столь мало революционным, что Альбера Валантена обвинили в обмане и исключили из группы. Позднее мы встретились с ним на Каннском кинофестивале — это был очень симпатичный человек, большой любитель рулетки.
Рене Кревель обладал приветливым характером. Единственный гомосексуалист в группе, он пытался бороться со своей склонностью. Эта борьба, усугубленная расхождениями между коммунистами и сюрреалистами, привела его к самоубийству однажды в одиннадцать вечера. Труп был обнаружен утром консьержем. Меня не было тогда в Париже. Мы не скрывали своего горя по поводу этой вызванной чувством страха смерти.
Андре Бретон был отлично воспитанным, несколько церемонным человеком, целовавшим дамам руки. Обожавший тонкий юмор, он презирал пошлые шутки и умел сохранить в нужный момент серьезность. Его поэма о жене наряду с произведениями Пере является для меня лучшим литературным воспоминанием о сюрреализме.
Его спокойствие, красота, элегантность — как и умение вынести верное суждение — не исключали вспышек внезапного и страшного гнева. Меня он так часто упрекал за то, что я не хочу познакомить сюрреалистов со своей невестой Жанной, обвиняя в ревности, свойственной испанцу, что мне пришлось согласиться принять его приглашение на обед вместе с ней.
На том же обеде оказались Магритт с женой. По непонятной причине Бретон сидел, уткнувшись в тарелку, нахмурив брови, и отвечал односложно. Мы ничего не могли понять, как вдруг, указав на золотой крестик на шее жены Магритта, он высокомерно заявил, что это недопустимая провокация и что она могла бы в данном случае надеть что-то другое. Магритт вступился за жену, началась перепалка, которая затем стихла. Магритт и его жена делали усилие, чтобы не уйти до конца вечера. Но их отношения с Бретоном стали более прохладными.
Бретон умел обращать внимание на неожиданные детали. Как-то мы встретились с ним после его визита к Троцкому в Мексике, и я спросил его мнение об этом человеке.
— У Троцкого, — ответил он, — есть любимая собака. Однажды она сидела рядом с ним и смотрела на него. «Не правда ли, у собаки человеческий взгляд?»— сказал он. Вы отдаете себе отчет? Как мог такой человек сказать подобную глупость? У собаки не может быть человеческого взгляда! У собаки — собачий взгляд!
Рассказывая об этом, он был в ярости. Однажды Бретон выскочил на улицу и стал пинать ногами переносную тележку бродячего продавца Библий.
Как и многие сюрреалисты, он ненавидел музыку, в особенности оперную. Желая разубедить его, я пригласил Бретона с Рене Шаром и Элюаром в «Опера комик» на оперу Шарпантье «Луиза». Когда поднялся занавес и мы увидели декорации и персонажей, все — и я первый — почувствовали живейшее разочарование. Это было совсем не похоже на то, что я больше всего любил в традиционной опере. На сцену выходит женщина с супницей и поет арию о супе. Это уж слишком! Бретон встает и, весьма рассерженный тем, что потратил время зря, выходит. Остальные следуют за ним. Я тоже.
Во время войны я встречал довольно часто Бретона в Нью-Йорке, а после окончания войны — в Париже. Мы остались друзьями до конца. Несмотря на все мои премии на международных фестивалях, он никогда не предавал меня анафеме. И признался даже, что плакал на «Виридиане». А вот «Ангел-истребитель» его почему-то несколько разочаровал.
Году в 1955 — м мы встретились с ним в Париже, оба направляясь к Ионеско, но так как у нас было в запасе время, мы зашли выпить. Я спросил его, почему Макс Эрнст, по заслугам премированный на венецианском Биеннале, был исключен из группы.
— Ну как вам сказать, дорогой друг, — ответил он. — Мы ведь расстались с Дали, когда он превратился в жалкого торгаша. С Максом случилось то же самое.
Помолчав, он добавил, и я увидел на его лице выражение истинного огорчения: — Как ни печально, дорогой Луис, но скандалы ныне невозможны.
Я находился в Париже, когда появилось сообщение о его смерти, и отправился на кладбище. Мне не хотелось быть узнанным, не хотелось разговаривать с людьми, которых я не видел лет сорок, я изменил свою внешность, надев шляпу и очки. Держался я несколько в стороне.
Церемония похорон длилась недолго и в полном молчании. Потом люди разошлись кто куда. Мне было жаль, что, провожая его в последний путь, никто не сказал ни слова над его могилой.
После «Андалузского пса» не могло быть и речи о том, чтобы снять, как уже тогда говорили, «коммерческий фильм». Я хотел остаться сюрреалистом. Просить снова взаймы у матери я не решился и был готов оставить кино. Но в голове уже роились два десятка разных сюжетов и трюков: набитая рабочими тачка проезжает через светский салон, отец из ружья убивает сына, уронившего на пол пепел от сигареты. Все это я на всякий случай записывал. Во время поездки в Испанию я показал свои записи Дали. Они его заинтересовали. Он считал, что на их основе можно сделать фильм. Но как?
Я вернулся в Париж, где Зервос из «Кайе д'ар» представил меня Жоржу-Анри Ривьеру, а тот в свою очередь предложил мне познакомиться с семьей де Ноайлей, которые «обожали» «Андалузского пса». Сначала я, как водится, заявил, что не желаю иметь дело с аристократами. «Вы не правы, — сказали мне Зервос и Ривьер, — это замечательные люди, с которыми вы непременно должны познакомиться». В конце концов я согласился пойти к ним обедать вместе с Жоржем и Норой Орик. Их собственный особняк на площади Соединенных Штатов был изумительным, в нем находилась драгоценная коллекция произведений искусства. После обеда, когда мы устроились у камина, Шарль де Ноаиль сказал мне: — Мы предлагаем вам снять двадцатиминутный фильм. Даем полную свободу. Но при одном условии: у нас обязательства перед Стравинским, и он будет писать музыку.
— Очень сожалею, — возразил я, — но разве можно себе представить мое сотрудничество с господином, который часами выстаивает на коленях и бьет поклоны? — (такие глупости тогда рассказывали про Стравинского).
Реакция Шарля де Ноайля была неожиданной, так что я невольно почувствовал к нему уважение.