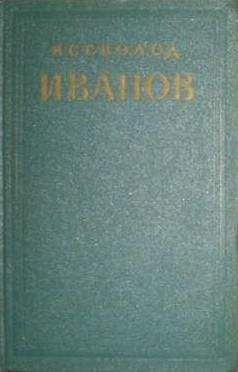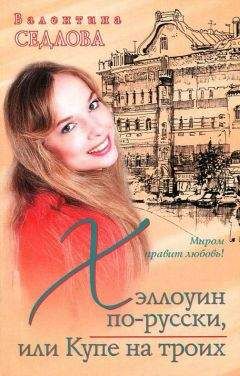Никто этой перемены не замечал, все шло как нужно, люди строжали, отряд становился крупнее, лишь Кубдя временами судорожно хохотал, махая руками, видимо старался отойти дальше от обступившего всех чувства связанности с землей, с ее болями, и от этих пахнущих таежным дымом людей, каждый день прибывавших на телегах, верхом и впешую на Лудяную гору.
Один Селезнев ходил с головой, откинутой назад, улыбаясь, обнажая верхние резцы зубов.
— Попом тебе, Антон, быть, — говорил Кубдя.
— А тебе — грешником.
Однажды прискакал верхом Емолин. Он радостно потряс всем руки, а Кубдю похлопал по плечу:
— Живешь, парень? Я вас, подлецов, в люди вывел. Молиться на меня должны.
— Достроил амбары-то? — спросил Кубдя.
Емолин закрыл глаза и помотал головой:
— Пока достроишь с вашим братом, нижний ряд сгниет. Ну и времена! И что такое деется, никак я не пойму. Спятил народ, что ли? И смешно и дико смотреть-то…
— А ты поменьше смотри.
— Неужто нельзя?
Емолин плюнул и лукаво хихикнул:
— Я ведь хозяин. Мне любопытно, как люди жисть устраивают, я и смотрю.
— Ты помогай.
— Ну, от нашей помоги вшами изойдешь. Тут инова калибра человек требуется. Я вот метаюсь-метаюсь, езжу-езжу и никак не пойму, какой тут человек надобен. Режут друг друга, жгут и все ждут кого-то, а?
Емолин подтянул подпругу и залез в седло:
— А у вас тут слобода! Кто хошь приезжай. Вот они какие, нонешние-то разбойнички, видал ты их! Чудно живете, паре, чудно!
VIIIШли разговоры о белых:
— Бегут, бают, колчаковские-то войска!.. Чуть ли не Омск взяли. Вся земля под советской властью, паре, будет, но-о!..
Маленький веснушчатый Беспалых даже присел на корточки, словно не мог выдержать такой мысли.
Горбулин кормил из черепка белобрюхого щенка молоком. Щенок мотал мордой, белые брызги летели вокруг, сползали по мягкой шерсти. Между возами ходили мужики с тоскливыми и озабоченными лицами, в бору звенели топоры, ржали лошади.
— Где зимовать-то придется? — сказал Горбулин, похлопывая щенка по спине. — Одуреешь без работы-то. Мается-мается народ и сам не знает пошто.
— Знал бы — так не маялся. Анненков-то близко.
— Лихоманка его дери, сломит и он шею!
— А там как придется. Либо он, либо мы — кому-нибудь придется.
— Чернь-то большая, уйдем.
— С пулей далеко не уйдешь. Им ведь английского пороху не жалко.
Беспалых удивленными глазами посмотрел в тайгу и со злостью вскричал:
— И как только английский мужик смотрит? Зачем таку пакость позволяет? Не может быть, чтоб неученых не было! Добро бы наша темень была, а то ведь у них, бают, и неученых-то нет.
— Врут! — сказал Горбулин с убеждением. — Не может быть, чтоб неученых не было; дураков везде много. А посылают снаряжение и морочут, что, дескать, охотиться народу надо.
— Из винтовок-то?
— Из винтовок на медведя, а там в прочего зверя.
— Обмундированье-то как, а?
Горбулин озадаченно посмотрел в лицо Беспалых.
— А это уж их дело, не знаю!..
Подошел Кубдя, немного вялый, с тревожным беспокойством на корявом лице.
— Собирай манатки-то, — торопливо сказал он.
Беспалых вскочил.
— Уходим, что ли? Я сказывал, Анненков близко.
Кубдя поправил пояс. Патронташ и револьвер как будто стесняли его.
— Никуда не уходим. Мы тут будем. Бабы с возами уйдут… от греха дальше. А нам, коли придется, так в белки надо…
— По другому следу?
Беспалых крепко уперся в землю и свистнул:
— Вот плакались, работы нету!..
Между возами шла спокойная широкая фигура Селезнева. Он хозяйственным взглядом окидывал телеги и рыдваны и как поторапливал раньше при молотьбе, немного покрякивая, так и теперь торопил:
— Собирайся, крещеные, собирайся! Эку уйму лопотины-то набрали.
Какая-то старуха в грязном азяме всплакнула:
— Жалко ведь барахло-то, Антон Семеныч.
— Так… так… — деловито сказал Селезнев.
Горбулин довольным голосом произнес:
— Айда, большак!..
Через час по таежным тропам, подпрыгивая на корнях, тянулись в черни ирбитские телеги, трашпанки, коробки.
Пищали ребятишки, в коробах гоготала птица, мычали привязанные за рога к телегам на веревках коровы, а мохноногие пузатые лошаденки все тащили и тащили телеги.
Поспевала земляника, и пахло ею тихо и сладостно. Как всегда, чуть вершинами шебуршили кедры.
А внизу на далекие версты в тропах ехали люди; плакали и перекликались на разные голоса, как птицы.
Человек триста партизан пошли за обозами за Золотое озеро, на елани осталось не больше сотни.
Ушедшие были вооружены пистонными дробовиками, а оставшиеся — винтовками. Расставили сторожевые посты, часовых и по тайге секреты. Стали ждать.
— Доволен? — спросил Кубдя у Селезнева. — Али еще скребет?
— Как-нибудь проживем, — отвечал Селезнев, устало ухмыляясь.
— Вот и благословили тебя. Должон доволен быть.
В голосе у Кубди слышалось раздражение.
— Не жалуюсь. А кабы и пожалиться — какая польза?
— Будто новорожденный ты, ступить не знаешь куды.
Селезнев вскинул взгляд поверх головы Кубди и повел рот вбок.
— Слышал ты, — сказал он смягчающе, — Улея-то в персть легла?
Беспалых одурело подскочил на месте:
— Сожгли?..
— Спалили, — просто ответил Селезнев, вынимая кисет. — Ладно, бабу вовремя увез. Повесили бы. Озлены они на меня.
— Придут седни.
Селезнев завернул папироску, прытко повел глазами и слегка прикоснулся рукой до Кубди.
— Седни не будут, помяни мое слово. А Улея-то только присказка, притча-то потом будет.
Он разостлал шинель на землю.
— Ложись, отдохни.
И, положив свое тело на землю, он углубленным, тягостным голосом проговорил:
— Самое главное — не надо ничему удивляться. А там уж и гнести нечему тебя будет, а? Кубдя! Ты как думаешь?
— Я вот думаю, — сказал Кубдя, — что у нас пулеметов нету, а у них три. Покосят они нас.
— Они укоротят, — с убеждением проговорил Горбулин.
Селезнев сорвал травку и начал ее разглядывать.
— Мала, брат, а так можно брюхо лошади набить, беда! — сказал он с усмешкой. — Ноне травы добрые. Оно, конешно, у кого косилка есть, лучше чем литовкой. А я так морокую, что в кочках-то с машиною не поедешь, Кубдя?
Кубдя тоже ухмыльнулся:
— Не поедешь, Антон Семеныч.
Селезнев утомленно закрыл глаза.
— А и устал я в эти дни. Будто тысячу лет прожил. Ты, Кубдя, жиреть начал.
— Во мне-то и никогда жиру не было.