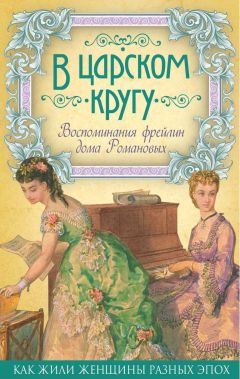Эти случаи, наскоро записанные, дадут понятие о благотворительности и сердечности Александра. Сладка для меня память о сношениях с ним, потому что они были всегда благородны и чисты. Государь по-прежнему оставался неизменен в милостивом ко мне расположении; суета празднеств и множество занятий на него не действовали. Я умилялась душою, когда, бывало, на блистательном бале подойдет он ко мне и станет говорить про то, как схожи у меня с ним понятия и вкусы. Иногда он посвящал мне по нескольку вечерних часов, и мы беседовали с ним в моей небольшой комнате точно так же, как прежде в Бруксале. Забывая о своем величии, изливал он передо мною свою душу, жаждавшую доверия и свободы. Однажды я воспользовалась этим настроением и завела речь про Императрицу и про то, что их обоих ожидает в будущем. Я давно искала благоприятной минуты, чтобы коснуться нового предмета, будучи уверена, что от сближения с супругой во многом зависят слава и благополучие Государя. Он отвечал мне следующее. «Я виноват, но не до такой степени, как можно думать.
Когда домашнее мое благополучие помутилось от несчастных обстоятельств, я привязался к другой женщине, вообразив себе (разумеется, ошибочно, что теперь сознаю ясно), что так как союз наш заключен в силу внешних соображений, без нашего взаимного участия, то мы соединены лишь в глазах людей, а перед Богом оба свободны. Сан мой заставлял меня уважать эти внешние условия, но я считал себя вправе располагать своим сердцем, которое и было в течение пятнадцати лет отдано Нарышкиной. Упрека в том, что я кого-нибудь соблазнил, я не могу себе сделать. Мне поистине всегда казалось ужасным склонять кого-либо к поступку, несогласному с его совестью. Она находилась в таком же, как я, положении и, подобно мне, заблуждалась. Мы оба вполне искренне думали, что нам не в чем упрекать себя. Позднее новым светом озарились для меня мои обязанности; но у меня не достало бы духу порвать столь дорогую связь, если бы сама она не просила меня о том в последнюю поездку в Петербург.
Я страдал невыразимо; но ее доводы были так благородны, так возвышали ее в глазах света и в моих собственных, что с моей стороны возражать было невозможно. Кроме того, как я уже сказал вам, я никогда не насиловал чужой совести. Таким образом, я покорился судьбе своей, и с тех пор разбитое сердце мое продолжает обливаться кровью, и настоящей отрадой служит мне встреча с лицом, которое меня понимает и жалеет».
«Портрет Марии Антоновны Нарышкиной». Художник Сальваторе Тончи. 1800-е гг.
Мария Антоновна Нарышкина, урожденная княжна Святополк-Четвертинская (1779–1854) — фрейлина, жена обер-егермейстера Д. Л. Нарышкина, фаворитка императора Александра I. Сестра князя Б. А. Четвертинского и Жанеты Вышковской.
В самом деле, когда я слушала его, у меня навертывались слезы; мне было жаль его при мысли, что такое обольщение не может продлиться и что рано или поздно он узнает настоящую причину, по которой Нарышкина его покинула. Разумеется, не мне было открывать ему истину. Достаточно было того, что явилась возможность сближения с Императрицей. И потому, дав ему время несколько успокоиться после передачи сердечных воспоминаний, я навела его мысли на будущее и стала говорить, что ему следует искать утешения личных скорбей своих в занятиях благом его народов. «Да, я люблю моих подданных, хотя до сих пор мало еще сделал для них. В особенности люблю я добрый простой народ, не обнаруживая предпочтения, которое к нему имею. Любовь угадывается, и я убежден, что они рассчитывают на мою любовь к ним. Мне предстоит решить великую задачу, т. е. даровать свободу населению, которое столько заслуживает ее. Знаю, с какими затруднениями связано это великое дело; но поверьте, что буду умирать в тревоге, если мне не удастся совершить его». Я сказала ему, как рада я слышать, что такая великая и благотворная мысль занимает его. «Но, Государь, — прибавила я довольно резко, — кому поручите вы после себя исполнение столь высоких намерений?» — «Я понимаю вас, — отвечал он, — и слышу в словах ваших тот же упрек, который мне столько раз негласно делался и на который я никогда не возражал. С вами я не стану скрытничать. Будем говорить прямо. Вы хотите сказать, что я должен позаботиться о наследнике престола; но ведь этот наследник имеется». — «Это так. Государь, но подданные Ваши желали бы, чтобы царствование Ваше было продолжаемо Вашим сыном, который так походил на Вас. Я не скрою от Вас, что великий князь Константан внушает опасения и что я лично не могу не разделять этого чувства, питаемого народной толпой». Император, казалось, огорчился, но тотчас же принял прежний кроткий вид и сказал: «Может быть, к нему не правы; страсти утихают с годами; он уже во многом изменился». Я замолчала, покачала головою и потупила глаза. «Впрочем, — продолжал Государь, — он почти одних лет со мною, и дело не в нем; ибо, по закону природы, между нашими кончинами не может пройти много времени. Но у меня есть брат Николай. Что вы о нем скажете?» — «Великий князь Николай подает большие надежды; но он не ваш сын». — «Вот еще! Кто вам сказал, что будь у меня сын, он был бы лучше брата Николая? Он уже воспитан, мы его знаем. Во всяком случае, если бы остался после меня ребенок, малолетство его было бы очень опасно для государства. Нет, нет, верьте мне: в этом отношении я не обольщусь, и все к лучшему. Что касается до наших лет, то дружбы и доверия достаточно для счастья жизни. Нам следует позабыть о прошлом, и уверяю вас, мне будет отрадно, если последние дни мои потекут в сладкую вечность в тишине и без страстей».
Этот разговор успокоил меня относительно будущего. Мне было невыразимо отрадно думать, что Императрицу ждут еще светлые дни, и мне казалось, что душа ее, открывшись для всякого рода сердечных ощущений, оценит и мою преданность, которую я не переставала питать к ней.
Но на границе Виртемберга ждали его новые торжественные изъявления. Ему пришлось пожертвовать целым днем королю Виртембергскому, и он ждал не дождался ночи, чтобы уединиться и успокоиться. Он был удручен скукой, усталостью и печалью. Душа его предалась самоуглублению. «Наконец, я вздохнул свободнее, — рассказывал он мне, — и первым моим движением было раскрыть книгу, которая всегда со мною; но затуманенное внимание мое не проникало в смысл читаемого. Мысли мои были бессвязны, сердце стеснено. Я оставил книгу и думал, каким бы утешением было бы для меня в подобную минуту побеседовать с существом сочувственным. Я вспомнил про вас, про то, что вы мне говорили о г-же Крюднер, и про желание, которое я вам выразил познакомиться с нею. Где она теперь может быть, спросил я себя, и где мне ее встретить? Только что я подумал про это, слышу, стучатся ко мне в дверь. То был князь Волконский. На лице его выражалось нетерпение. Он сказал мне, что никак не хотел меня беспокоить в такой час, но не может никак отделаться от женщины, непременно желающей меня видеть. Тут он назвал г-жу Крюднер. Можете судить о моем удивлении! Мне подумалось, не в бреду ли я. Такой внезапный ответ на мое помышление не мог же быть случайностью. Я увидал ее, и она, словно читая в душе моей, обратилась ко мне с сильными и утешительными словами, успокоившими тревожные мысли, которыми так давно я мучился. Ее появление было мне благодательно, и я дал себе слово продолжать столь дорогое для меня лакомство». Свидания участились, и Государь был ими доволен. В этой необыкновенной женщине соединены прелесть и ум светского общества с горячей и искренней верой. Происходя из знатной Лифляндской семьи, в течение слишком ста лет преданной Русскому императорскому дому, баронесса Крюднер влеклась к Александру преданиями своей молодости, привязанностями всей своей жизни и, если говорить всю правду, по тайному внушению некоторых темных лицемеров, которые под личиной набожности овладели ее доверием. Ее возраст, состояние и составленное имя устраняли возможность всякого подозрения. Александр находил истинную отраду в ее беседах и с нею, по-видимому, забывал про сан свой. Главная ее квартира некоторое время находилась в Гейдельберге. Баронесса Крюднер приехала туда и, ради спокойствия, поселилась за городом, в крестьянской избе, на прекрасном берегу Неккара. Там проводил у нее Государь большую часть вечернего времени. Он слушал, как она говорила о Боге, любить Которого научилась душа его, и доверчиво передавал ей повесть скорбей и страстей, которыми омрачилась некогда прекрасная жизнь его. Баронесса вовсе не льстила ему; она умела говорить правду, не оскорбляя. Она могла бы сделаться благодетельным для России гением, если бы не поддалась нечистому влиянию лицемерия. Образ ее жизни уже возбуждал любопытство и удивление. Вскоре окружила ее толпа людей, до того времени и не помышлявших о ее существовании. Начались догадки. Одни принимали ее за тайное орудие России в ее намерениях относительно Германии; в глазах других сближение с Александром было только новым доказательством власти, которую имели над ним женщины; но всем хотелось воспользоваться этим новым средством влияния.