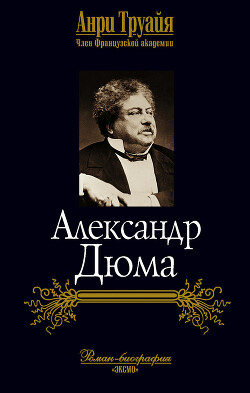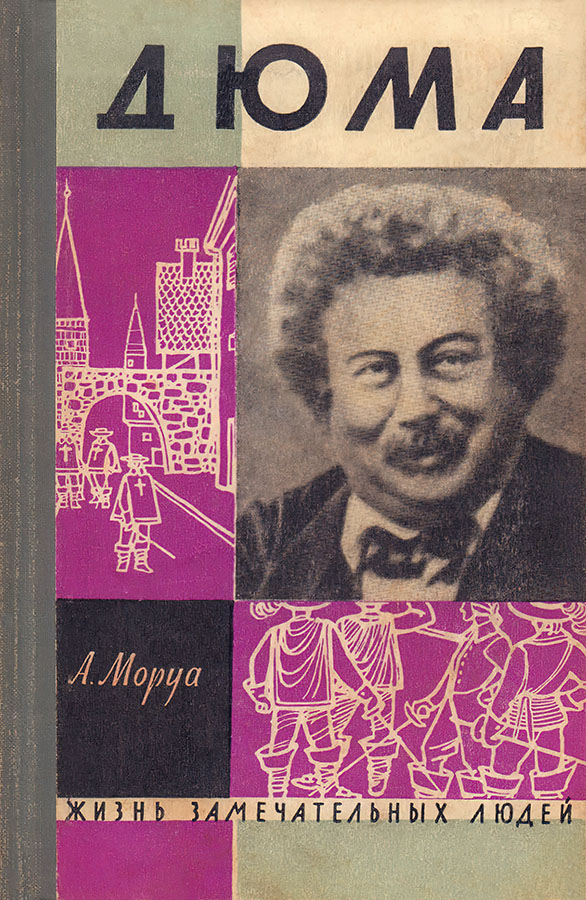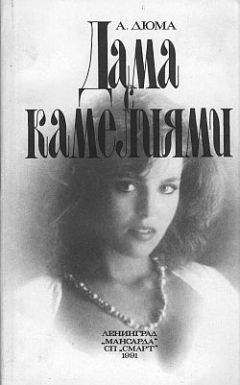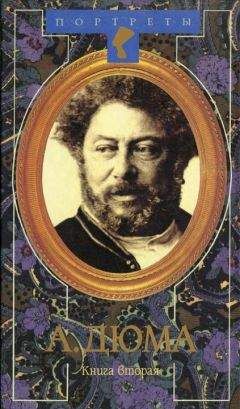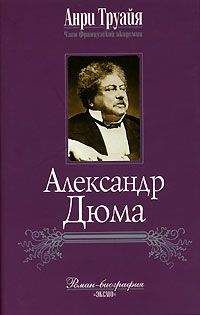Оставалась последняя надежда: он решил заинтересовать трудной судьбой своей пьесы фаворитку покойного Людовика XVIII, сохранившую большое влияние при дворе, «милейшую и умнейшую мадам дю Кайла». Попытка даром не пропала. Прошло несколько дней – и ловко одураченный цензурный комитет пересмотрел свое суждение, позволив играть «Христину» без существенных поправок.
Тем временем Виктор Гюго одержал 25 февраля 1830 года блестящую победу со своим «Эрнани». Распаленные успехом «Генриха III» Дюма, молодые люди из клана романтиков – все с такими же растрепанными волосами и в тех же причудливых одеяниях – дали себе волю и на премьере «Христины». Они всласть натешились, громогласно выражая восхищение этим гениальным прославлением «кастильской чести». Их убеленные сединами противники, напротив, задыхались от ярости. И все это служило добрым предзнаменованием для нового поколения, одним из самых заметных представителей которого был Александр. «Генрих III», «Эрнани», «Христина» – «та же самая битва», объявил он, потирая руки.
Между репетициями своей пьесы Дюма навестил мадемуазель Жорж. Эта любовница Ареля и тайная советчица Жюля Жанена в свои сорок три года все еще была очень привлекательна. Высокая, дородная, сияющая здоровьем, она охотно принимала гостей, одновременно принимая ванну. Так случилось и с Александром, который, несмотря на весь свой опыт, пришел в смятение, глядя на то, с какой грацией артистка время от времени поднимает над водой то одну, то другую руку, чтобы подколоть золотой шпилькой выбившуюся прядь волос. Это движение порой позволяло увидеть начало груди, которая, по его словам, казалась «изваянной из паросского мрамора». Дюма с трудом овладел собой, чтобы не поддаться искушению и не присоединиться к водным забавам хозяйки дома, но ведь своим натиском он мог бы поставить под удар успех «Христины»: так мало надо, чтобы пьеса, которую явно ждало прекрасное будущее, потерпела провал! Да еще к тому же политические события заставили публику отвлечься от театра. Вот уже несколько дней атмосфера в городе была грозовая. Пресса неистово обрушилась на правительство, чья проявляющаяся по любому поводу авторитарность возмущала всех здравомыслящих людей. Король повсюду видел покушения на его верховную власть, а безраздельно преданный ему Полиньяк множил меры устрашения, направленные против тех, кого подозревали в подрывной деятельности. Двести двадцать один либеральный депутат подписал декларацию, в которой говорилось о праве граждан участвовать в «обсуждении государственных проблем». В ответ Карл Х прекратил деятельность палаты депутатов. Было ли это прелюдией к новой революции? А если да? Но ведь надо было жить, писать, придумывать сценическую игру, рассылать приглашения на премьеру – и все с этой постоянной угрозой за спиной?
Фредерик Сулье, присутствовавший 29 марта на генеральной репетиции «Христины», предупредил Александра о том, что, по его сведениям, назавтра готовится заговор. Верный товарищ опасался, что сторонников автора окажется недостаточно, они не смогут заглушить голоса недовольных, и попросил пятьдесят мест в партере для того, чтобы разместить там рабочих своей лесопилки: эти неотесанные парни, получив должные наставления от своего хозяина, сумеют, уверял он, заставить подстрекателей из вражеского лагеря умолкнуть. Сделка была заключена. 30 марта, в семь часов вечера, едва взвился занавес, поднялся оглушительный шум. Защитники умирающего классицизма вопили и свистели. По знаку Фредерика Сулье его рабочие ответили не менее громогласно. Со всех сторон неслись крики: «Негодяи! Дураки в париках! Убожества! Жеманницы из отеля Рамбуйе!» Эти крики временами заглушали голоса актеров. Правда, понемногу шум улегся, и аплодисменты перекрыли возмущенный ропот. А когда Христина при виде раненого Мональдески, лежащего у ее ног, обратилась к отцу Лебелю со словами: «Ну что ж, мне жаль его, отец… Пусть его прикончат!» – большая часть зрителей, казалось, была покорена. Оставался лишь эпилог. Однако сцена, во время которой Христина объясняет, что побудило ее к убийству, вышла затянутой, внимание зрителей ослабело, в партере и на балконах начали кашлять, вертеться, перешептываться. Хуже того: когда развенчанная королева спросила у врача, долго ли ей еще ждать смерти, какой-то шутник вскочил с кресла и завопил: «Если через час она не умрет, я уйду!»
Представление закончилось, но Александр, успевший за это время несколько раз перейти от тревоги к надежде и обратно, не мог понять, какой приговор вынесен его «Христине», что это – успех или провал? Только в одном он был теперь совершенно уверен: эпилог надо убрать, а несколько неудачных четверостиший срочно переделать.
Дюма пригласил к себе на ужин после спектакля двадцать пять человек из числа своих друзей. Мелани принимала гостей, среди которых были Гюго, Виньи, Буланже, Планш, Теодор Вильнав… Одни только знатоки. За столом обсуждали поправки, необходимые для успешного «хода» пьесы. Александр был согласен с тем, что «Христину» придется почистить, но успеет ли он исправить все, что надо, и дать актерам возможность прорепетировать все в целом до завтрашнего представления? От волнения у него пропал аппетит. Бедняга недооценил истинно братское великодушие иных писателей, у которых талант сочетается с благородством! Гюго и Виньи немедленно предложили ему свои услуги: они закроются в кабинете и займутся «приведением в порядок» пьесы, в то время как автор с остальными гостями продолжит пировать в соседней комнате. «Они работали четыре часа без передышки так же добросовестно, как если бы работали на себя, а когда выбрались на волю и увидели, что все уже легли и спят, не стали никого будить, оставили рукопись на камине и ушли – два соперника – рука об руку, словно братья». [48]
Утром Александр, измученный вчерашними волнениями, еще дремал. Вдруг кто-то постучал в дверь. Мгновенно проснувшись, он поспешил открыть. Перед ним предстал книготорговец Барба, который пришел предложить ему двенадцать тысяч франков за право напечатать рукопись «Христины»: вдвое больше того, что автор получил за рукопись «Генриха III»! На этот раз сомнений не оставалось. «Это успех!» – провозгласил Александр. И решил первым делом расплатиться с несколькими кредиторами, а книгу посвятить герцогу Орлеанскому, который всегда был рядом с ним в трудную минуту. Неблагодарность Дюма с детства считал главным пороком низменных душ и потому, едва достигнув сознательного возраста, решил вести себя достойно.
Второе представление, с текстом, исправленным Гюго и Виньи, завершилось дружными аплодисментами и многочисленными вызовами. Газеты в целом были настроены доброжелательно. Конечно, кое-где встречались злобные выпады. Так, Филарет Шаль написал в «Парижском обозрении» («La Revue de Paris»), что новая пьеса Александра Дюма представляет собой «немыслимую мешанину», а «Театральный курьер» уверял, будто «мадемуазель Жорж – это огромная круглая тыква в женском обличье», успех же пятиактной пьесе обеспечили «бесчестные клакеры». Как бы там ни было, дело было сделано, интерес у зрителей пробудился, и зал неизменно оказывался полон.
Как-то вечером, когда Александр шел через площадь Одеона, рядом с ним остановился фиакр. Сидевшая в нем женщина выглянула наружу и окликнула его: «Господин Дюма!» Узнав в ней актрису Мари Дорваль, очаровательную возлюбленную Виньи, Дюма поклонился. Выяснилось, что Мари видела спектакль и все еще не может прийти в себя от волнения. «Ну, садитесь же рядом, ну, поцелуйте же меня! – воскликнула она. – У вас большой талант, и вы неплохо понимаете женщин!» Когда такая пленительная молодая особа говорит драматургу, что он «неплохо понимает женщин», ему незачем и ждать лучшей похвалы. Александр сел в фиакр, обнял Мари Дорваль и запечатлел на ее щеке почтительный поцелуй. Приведет ли когда-нибудь этот простой знак дружбы к более близким отношениям? Он не смел на это надеяться, но, несмотря на восхищение и признательность, которые испытывал к Виньи, решил, что не отказался бы от такого романтического приключения.