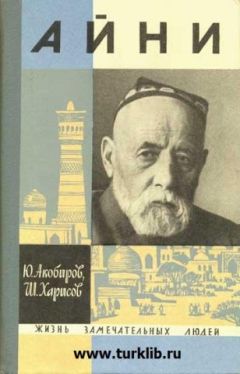«Впервые я встретился с устодом в школе, — пишет Абдусалом Дехоти, — это была его книга «Тахзиб-ус-сибьен». Я учился в то время во втором классе. В первом мы изучали алфавит. Книга Айни была самой важной нашей книгой: в основном мы изучали религиозные книги, и единственной светской книгой была книга Айни, книга о дружбе и товариществе, о труде, об отношении человека к человеку, о садоводстве, о праве человека на землю, о животных, земледелии и скотоводстве, даже о том, как стряпать пищу…
…Скоро в газете «Овози Таджик» стали печатать отрывки из повести «Одина». Я читал ее дехканам, отцу, матери. Правда, читал я по складам, но слушатели были нетерпеливыми, а повесть — захватывающей, жизненной правдой.
Мы, читатели того времени, все делили на притчи и на жизненные истории и ничего не знали о художественной правде. В нашей школе организовали литературный кружок. Там мы узнавали азбуку искусства.
В газете «Овози Таджик» было сказано, что автор повести «Одина» — человек средних лет, в чапане и чалме, человек, вынесший 75 палочных ударов, присужденных ему эмиром, что он наш земляк. В двух километрах от нас жил человек — Сайфиддин. Мы с братом решили, что это и есть Айни, и долго ходили за ним по пятам.
И только через год, в честь 4-летия образования Таджикской автономии, был митинг. В президиуме сидел Айни, но это был не Садриддин.
Вечером я брату похвалился: видел самого настоящего Айни.
1929 год. В журнале «Рохбари Дониш» вышел мой первый рассказ. Меня пригласили в редакцию. С удивлением я узнал, что за рассказ мне причитаются деньги.
В кабинете за столом сидел Айни. Я открыл дверь и заглянул: в очках, в руках карандаш, перед ним «Гиес-уллугат» — словарь. Он что-то читал нагнувшись или правил, я уже не помню. За этим же столом сидела русская женщина. Она писала.
Айни поднял голову.
— Товарищ, заходите! Вы к кому?
— Оказывается, здесь мне должны заплатить за труд…»
Узнав, что он говорит с Пирмухаммат-заде, Айни осведомился:
«… — А рассказ «Хамида» ваш?
— Да, мой рассказ.
— Читал. Нельзя сказать, что это плохо. Для молодого неплохо, но для писателя — не очень хорошо. Сюжет и язык — хорошие. Запомните, в реалистическом искусстве повторы и подробные длинноты не допустимы. Рассказ начинаете издалека и рассказываете нудно и скучно. Начинайте с самого важного или интересного, заинтересуйте читателей, чтоб они с первых же строчек не отложили разочарованно рассказ, а постарались узнать, а что же дальше будет.
Это был для меня первый урок устода. Потом их было много: устод терпеливо объяснял мои ошибки, но тот первый урок запомнился мне на всю жизнь…»
Осень 1932 года. В Самарканд из Москвы приехали трое гостей: известный русский поэт, ныне покойный, Виктор Гусев, критик Ермилов и еще один литератор. Союз писателей Узбекистана дал обед. Приглашенные пешком отправились из нового города в старый. По дороге, уже не помню, кто из гостей, то ли Ермилов, то ли Гусев, спросил:
— Пусть товарищ Айни скажет: кто-нибудь из молодых писателей тоже может написать «Дохунду»?
Конечно, вопрос был задан не совсем правильно: надо бы сказать «такое же произведение, как «Дохунда».
Кто-то из товарищей перевел вопрос на таджикский язык. Айни ответил:
— Для этого надо испытать гнев эмира и семидесятипятипалочное наказание.
А потом уже по-русски повторил:
— Товарищ, для этого сначала надо семьдесят пять палка кушать…
«В 1934–1935 годах я был секретарем Союза писателей Узбекистана в Самарканде. Председателем был узбекский писатель покойный Шокир Сулаймонов. Он жил в новом городе. Однажды, это было зимой, Шокир-ака мне сказал:
— Я всегда с домулло Айни встречаюсь только на совещаниях. Нехорошо. Нам надо сходить к нему домой, поговорить. Живем-то в одном городе…
Мы направились в старый город. Устод сидел в большой гостиной, протянув ноги к сандали, и работал. Мы тоже присели и протянули ноги к огню.
Помолчав некоторое время, Шокир-ака сказал:
— Домулло, говорят, что сандали делает человека ленивым.
Домулло тяжко вздохнул и ответил:
— Товарищ Шокир, я за этим сандали написал «Одину», «Дохунду», «Рабов». Вы двадцать лет живете в благоустроенных домах с печкой и отоплением, что же написали вы?
Шокир-ака покраснел и долго извинялся.
…В один из весенних дней 1932 года в нашем саду в кишлаке Боги Майдон, что лежит на восточной окраине Самарканда, собрались гости — группа учителей и работников газеты «Хакикати Узбекистан». Одного товарища послали пригласить в гости устода Айни. Мы ему наказали узнать, сможет ли устод приехать на лошади, если нет — то надо будет заказать фаэтон. Оказывается, когда наш посыльный заикнулся о фаэтоне, устод засмеялся и сказал:
— Вы меня принимаете, очевидно, за одного из старинных, чванливых мулл, не умеющих садиться на лошадь. Те если и сядут, то потом не смогут сами сойти. Мы вдвоем поедем на твоей лошади: я ведь такой же, как и ты, крестьянский сын и, слава богу, умел когда-то ездить и на лошади и на осле.
Так они вдвоем и въехали к нам во двор и на одной лошади. Мой отец я дядя, правда неграмотные, знали, как принять дорогого гостя: они выбежали ему навстречу…
Гости прошли в наш сад: там под яблонями их ждали угощения. Я прислуживал гостям и поэтому долго не смог сидеть за одним столом с устодом.
Я был на кухне, возился с чайником, слышу:
— Товарищ Дехоти!
Айни ко всем обращался «товарищ» и не признавал никаких других обращений.
Я пришел. Устод попросил моего отца повторить свои слова. Мой отец изумился: ничего особо примечательного не было в его словах, но было одно очень меткое выражение.
Устод, довольный, посмеивался и говорил всем окружающим:
— Я всегда говорил, что надо учиться языку у народа. Какое сочное слово! Какое меткое выражение!
И еще. В этот вечер я дважды слышал отзывы про устода: соседка наблюдала через забор, как въехал и как пошел в сад устод Айни, и, подозвав меня, спросила:
— Ваш домулло с таким громким именем — и вдруг без чалмы и без напыщенной важности, как же так?
— Представьте, наш домулло когда-то носил большую чалму, но снял ее раньше, чем вы, тетушка, паранджу, — ответил я ей со смехом, но потом серьезно добавил: — Айни — домулло нашего времени, ученый сегодняшнего дня…
…Мой дядя подошел ко мне и тоже с удивлением мне признался:
— Диву даюсь, ваш домулло нисколько не чванится и не важничает, очень уж непривычно видеть великого ученого, запросто беседующего со всеми, не признающего рангов и условностей,
Я хорошо понимал дядю — ведь он на своем долгом веку видел очень многих знатных, брезговавших соседством людей простого звания…