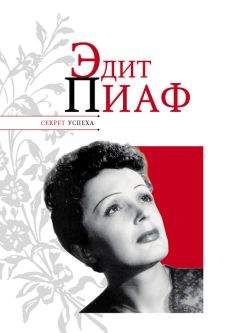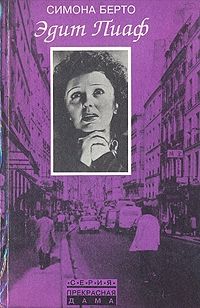О-ля-ля! Прекрасная история,
Наверху, на стенах бастиона,
В солнечных лучах, полных славы,
И на ветру полощется флажок.
Это вымпел легиона!
О-ля-ля! Прекрасная история,
Их осталось трое на бастионе,
Обнажены до пояса, покрыты славой,
В крови, от ран и ударов, в лохмотьях,
Без воды, вина и боеприпасов,
Даже не могут кричать: «Победа!»
У них украли их флажок —
Прекрасный вымпел легиона!
О-ля-ля! Прекрасная история,
Те трое, на бастионе,
На своей груди, черной от пороха,
Кровью нарисовали,— мать вашу так —
Прекрасный вымпел легиона!
И крик «Мы в строю легиона!»
Ну, во-первых, в концертной программе есть определенный порядок. Песни нельзя нанизывать одну за другой, как попало. В жемчужном ожерелье красота жемчужины зависит от места, которое она занимает.
Теперь о свете. Он меняется на каждой песне, в зависимости от стиля. Свет, как у папы Лепле, белый, слепящий, прямо в лицо, вообще за освещение не считается. На меня светят синим, красным, смешанным, но не ярким светом. Яркий меня убивает.
Еще один хитроумный трюк — ложный занавес. После пятой песни занавес опускается, как будто ты кончила петь. Публика должна аплодировать, вызывать тебя. Если публика вялая — ничего: занавес поднимается все равно с триумфом, под музыку. Потом даются ложные занавесы в конце, потом вызовы, бисировка…
Из-за света у меня будет косметика «для сцены». Тут смотри в оба. В этом я не доверяю Реймону. У меня на этот счет свое мнение. Реймон, если бы мог, превратил меня в Марлен Дитрих. И не потому, что он глуп или слеп, нет, просто он мужчина, и женщину, с которой спит, объективно оценить не может. То ему много, то мало!
Я уверена, что на сцене должна быть такой же, как на улице: бледное лицо, большие глаза, рот, и ничего больше. Из-за платья мы тоже сцепились. Он хотел красное пятно, платок, например. Я ему сказала: «Ты спятил? И канкан танцевать, как Мисс?»[18]
Она жужжала мне в уши целый час.
Назавтра я сидела в глубине зала, и сердце мое разрывалось от счастья: я видела Эдит на настоящей сцене.
Занавес из красного бархата в ярком свете казался живым, позади него было движение, слышались голоса рабочих сцены: «Эй, Жюль! Погаси софит…», «Опусти рампу… еще…», «Так хорошо, мсье Ассо?»
Реймон стоял на сцене, перед занавесом. Мне было странно видеть его через девять месяцев. За это время мог родиться ребенок! В зубах у него была трубка, лицо, обычно сухое, блестело от пота. В свитере с высоким воротником он был похож на рабочего, гегемона с образованием. В тот вечер он показался мне красивым. Он прикрыл глаза рукой и крикнул осветителям: «Меньше света, третий и пятый на балконе, уберите первый центровой. Не заливайте ее светом, ребята, лепите скульптурно». Черт возьми, как он знал свое дело!
Сидевший в третьем ряду Митти спросил: «Ну что, начинаем? Готово?» Реймон спрыгнул в зал и крикнул: «Начали!»
И заиграл оркестр. У меня подкатил ком к горлу: восемнадцать музыкантов для Эдит! Для одной Эдит! Как в церкви, слезы навернулись у меня на глаза.
Черный и пустой зал, где пахло пылью и холодным табачным дымом, превратился в волшебную пещеру. Занавес распахнулся, и вышла Эдит. Луч света подхватил ее и, как крыло ангела-хранителя, больше не покидал. Дирижер не сводил с нее взгляда, и она начала петь. Она велела мне смотреть во все глаза, но я не смогла. Я уронила голову на спинку переднего кресла и рыдала всю первую песню. Я не могла сдержаться. Но потом открыла глаза и уши и замечала все. Я казалась себе счетной машинкой, которая все регистрировала. Во мне будто что-то щелкало: «клак, клак, клак!» Я все в себя вбирала. Наверно, так заряжается память компьютера. Что это была за ночь! Когда Эдит кончила петь, у меня руки чесались, чтобы захлопать. Но на репетициях это не принято: считается плохой приметой. Занавес закрылся. Пауза. Голос Митти:
— Хорошо, Эдит. Очень хорошо!
Реймон вывел ее из-за кулис. Он вынул свой блокнот; Эдит стояла перед ним как послушная девочка, подняв на учителя огромные глаза. Теперь он был в роли патрона.
— После третьей песни ты даешь слишком маленькую паузу. Публика должна успеть тебя принять. Не вступай так быстро. Я поднимался на галерку. Эдит, ты на них мало смотришь. А поешь ты для них. Твой успех зависит именно от простого народа. Когда кланяешься, смотри только наверх, чтобы им казалось, что ты смотришь им прямо в глаза.
В шестой песне «Вымпел легиона» вы опаздываете с полным светом, ребята! Получается провал, она уже кончила петь, а света еще нет. Это должно совпасть, ведь это же победа!
Да, в тот вечер я оценила, какую работу проделал Реймон. Я ушла от них не зря…
Митти крикнул:
— На сегодня все, ребята. До завтра.
И зал опустел, в нем стало холодно и грустно.
На следующий день я пришла на свиданье с Эдит намного раньше. Всю ночь я не смыкала глаз. Не успев войти, Эдит спросила:
— Ну, как, Момона, вчера?
— Потрясающе!
И мы обнялись.
Такой Эдит была всегда. Она любила комплименты, они были ей приятны, радовали, но ей нужна была критика, она ее требовала. По этой черте узнаются большие артисты.
— Что касается песен, положись на Реймона. Он в этом сечет. (Мне трудно было сделать это признание, но это была правда.) С прической — все в порядке. Косметика: внимательней крась губы, ты их не вырисовываешь, а шлепаешь по ним помадой кое-как.
Эдит всегда красилась, не глядя в зеркало.
— Момона, мой стиль — никакой косметики. Лицо должно быть обнаженным. Я отдаю его публике, как возлюбленному. А что ты скажешь о платье?
Для сцены ей сделали черное платье из модного тогда шелка клоке. Очень простой покрой, длинные рукава и беленький воротничок.
— Мне не понравился воротничок.
— Но у Лепле у меня тоже был воротничок.
— Это выглядело совсем по-другому. Твой маленький воротничок из поддельных кружев придавал хоть какую-то элегантность вязаному платью. На этой сцене, при сложном освещении ты будешь лучше выглядеть с «обнаженным», как ты говоришь, лицом и без воротничка. Тогда светлым, ярким будут только твое лицо и руки.
— Мне нравится то, что ты говоришь. Пожалуй, это правильно. Придется Реймону это проглотить. Ты знаешь, сейчас он себе цены не сложит.
(В вечер премьеры она была в платье без воротничка. Я тоже одержала свою маленькую победу.)
Уходя, она протянула мне коробку.
— Это тебе на завтра, на премьеру. Пальто. Не снимай его.
Не знаю, как бы я без него вышла из положения! У меня не было ничего приличного!
Назавтра, в новом темно-красном пальто с лисьим воротником, я чувствовала себя, как мне казалось, уверенной. Но при виде битком набитого зала, где простой народ смешался с теми, кого зовут «Весь Париж», я чуть не закричала от страха! Вдруг они не примут мою Эдит?