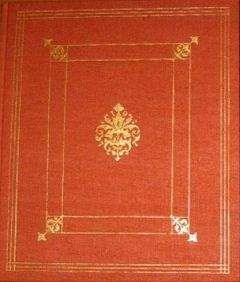Ознакомительная версия.
При всей разноречивости суждений участников спора можно выделить некоторые общие позиции. Противники авангарда восприняли поворот Пикассо как свидетельство долгожданного краха левого движения и истолковали его в целях дидактических. Это был урок русским левым: «Последователям Пикассо остается только проливать горькие слезы»[371]. И. Грабарь, очевидно, соглашаясь с нелестной для «энгровских» рисунков оценкой немецкого искусствоведа Отто Граутоффа, также морализировал: «Если слишком крутой поворот обнажил бедность художественной культуры даже у Пикассо, то сколь опаснее такой поворот для россиян?»[372] Наиболее последовательно неоклассицизм Пикассо развенчивал Радлов. Статья его о Пикассо непосредственно связана с проблематикой сборника памфлетов «О футуризме» (1923), в целом направленного против отечественного авангарда. Естественно, что Радлов, теоретик русских неоакадемистов, отказал вчерашнему кубисту в какой-либо связи с классической французской традицией. Он категорически отрицал самою возможность создания «большого стиля» усилиями левых. Напротив, по его мнению, «энгризм» вел «к созданию новой системы новых символов, более объективных, но столь же мертвых, как и кубистические»[373].
В то же время большинство критиков, взгляды которых складывались в кругу «Мира искусства» и «Аполлона», довольно лояльно принимали новую манеру художника, ощущая в ней возвращение к духу латинской традиции, а потому не подвергали сомнению серьезность и глубину творческого поиска Пикассо. «Искусство его искренно, – писал Э. Голлебарх, – чуждо… шарлатанства»[374]. Я. Тугендхольд также подчеркивал связь художника с традицией Энгра и Дега, считал, что залог ее развития – «в непрерывной связи с “натурой”»[375]. Наиболее ярко суть подобного взгляда на Пикассо сформулировали Е. Бебутова и П. Кузнецов, побывавшие в Париже в 1923 г. Путь мастера виделся им образцом развития современной живописи: «Кубизм дал ему гигантскую мощь кисти, крепкое и вместе с тем упрощенное понимание формы и цвета… Художник не просто “разочаровался” в кубизме, а пошел дальше по своему пути, создавая новый реализм, построенный на своих прежних достижениях»[376]. Таким образом, парижский художник служил своего рода назидательным примером как для отечественных беспредметников, так и для отвергавших живописный опыт последних десятилетий традиционалистов.
Близкая к Ассоциации художников революционной России критика, однако, воспользовалась поисками Пикассо также откровенно прагматически. Например, еще в 1922 году идеолог Ассоциации В. Перельман писал: «Крайне симптоматично, что Пикассо возвращается к традициям Энгра… Мы подходим к синтезу»[377]. Но уже год спустя, в пору консолидации АХРР, педалируя оценки буквально воспринятого Граутоффа, он настаивал на том, что именно «возврат к Энгру», служивший незадолго до этого знамением нового синтеза, обнаружил роковую «беспомощность и слабость» художника[378].
Русские левые вправе были бы расценить «энгризм» Пикассо как удар в спину, если бы за годы изоляции от Европы отечественный авангард не вышел бы за пределы кубо-футуристической концепции (трактат Пунина «против кубизма» с инвективами в адрес французской школы и Пикассо родился вне зависимости от его «измены»). П. Филонов, например, и в 1923 году продолжал отрицать Пикассо как представителя старого, «реалистического» искусствопонимания. Дальнейшая эволюция Пикассо, похоже, в принципе не представляла для него интереса[379].
Выяснялось к тому же, что «Пикассо продолжает свои поиски…» и «ни теоретически, ни практически никогда не отрекался от кубизма и его продолжений…»[380] Это обстоятельство позволило наиболее активным публицистам авангарда 1920-х годов – производственникам превратить нужду в добродетель и изящно уйти из-под критических стрел традиционалистов, акцентировавших в полемике с левыми именно «классицизм» Пикассо. Производственники и лефовцы осуждали Пикассо за самодовлеющий станковизм, но брали его под защиту, с одной стороны, как собственного предтечу, а с другой – как крупнейшего мастера современности, в силу общественных условий неспособного применить свой дар в искусстве прямого социального действия: «В этих перескакиваниях с приема на прием видишь не отход, а метание из стороны в сторону художника, уже дошедшего до предела формальных достижений в определенной манере, ищущего приложения своих знаний и не могущего найти приложения в атмосфере затхлой французской действительности» (Маяковский)[381]. В этих словах уже намечается итог, к которому вскоре придет практически вся советская критика. Высоко оценив талант Пикассо и совершенство его живописи, она вынуждена будет отказать художнику в самой возможности качественного развития без четкого идейного самоопределения.
Ни одна из прежних стилистических метаморфоз Пикассо не вызывала в России столь острой реакции, как неоклассицизм. Дело не только в том, что слишком шокирующим был контраст между припорошенными опилками плоскостями, лишь условно соотносимыми с каким-либо реальным мотивом («Композиция с гроздью винограда и разрезанной грушей», 1914, ГЭ), и своеобразной гармонией осязаемых массивных телесных форм, предполагающей очевидные классические ассоциации (например «Большая обнаженная», 1921, Лувр). В конечном счете русскими критиками рубежа 1910–1920-х годов контраст этот скорее предполагался, чем ощущался реально. В пору, когда неоклассику знали, как правило, по репродукциям, переход Пикассо к «классицизму» означал для русского художественного мира своего рода ритуальное действие. К такому истолкованию публика и критика были подготовлены предшествующими манифестациями авангарда. Значение же «энгровского» поворота именно как жеста – указующего перста или поднятых рук – диктующего направление или, наоборот, знаменующего капитуляцию, усугублялось ситуацией в русском искусстве.
Известие о новой эволюции Пикассо проникло в Россию именно в те месяцы, когда на смену решительно превалировавшему в революционную пору эстетическому радикализму приходило, но не пришло еще, сложное взаимодействие традиционных – от ахрровско-передвижнической до бубново-валетской, примитивистской (НОЖ) или, несколько позднее, остовской – живописных концепций. Авангард же утрачивал внешнюю целостность и вступал в полосу активных мутаций.
Ознакомительная версия.