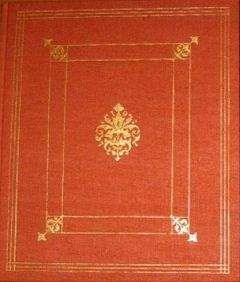Ознакомительная версия.
Известие о новой эволюции Пикассо проникло в Россию именно в те месяцы, когда на смену решительно превалировавшему в революционную пору эстетическому радикализму приходило, но не пришло еще, сложное взаимодействие традиционных – от ахрровско-передвижнической до бубново-валетской, примитивистской (НОЖ) или, несколько позднее, остовской – живописных концепций. Авангард же утрачивал внешнюю целостность и вступал в полосу активных мутаций.
После своего рода потрясения, вызванного «энгризмом» и неоклассикой, Пикассо в глазах русской критики надолго утратил прежний ореол исключительности, черты провиденциальной связи с судьбой искусства (сам характер реакции на «классицизм» еще предполагал подобное восприятие). С начала 1920-х годов Пикассо все чаще рассматривался русской критикой как один из мастеров современного искусства, хотя и в этом ряду он оставался «самым большим живописцем» (Маяковский), «мудрым Пикассо» (Кузнецов), «крупнейшим из ныне живущих художников» (Вейдле)[382]. Становилось очевидным, что творчество Пикассо можно адекватно воспринять лишь вне жесткой связи с какой-либо художественной доктриной. «Пикассо… во многом труден для нас и, может быть, для себя. Никогда успех не был основан на большем непонимании. И я не хочу сказать, что у Пикассо нет связи со своим временем, я думаю только, что эта связь еще не ясна, что, во всяком случае, она не в плоскости классицизма или кубизма, но лежит глубже, проявится позднее…», – размышлял на страницах петербургского журнала «Современный Запад» В. Вейдле[383].
В середине 1920-х годов определились новый подход к Пикассо и иные интонации критики. Советские искусствоведы и художники, посещавшие парижские галереи, коллекции, мастерские, открывали более сложный, конкретно-осязаемый образ Пикассо. Образ этот, впрочем, почти лишился ореола легенды и стал не столь волнующим, как в минувшие годы. Творчество Пикассо теперь представало, как правило, в контексте устремлений сегодняшнего французского искусства, в своеобразии и самоценности парадоксальных живописных поисков. В то же время отечественный наблюдатель постепенно, но неуклонно утрачивал чувство причастности Пикассо к драматическому развитию русского искусства.
В. А. Крючкова
Динамическая форма в искусстве Пикассо
Задача динамизации художественной формы, входившая в авангардную программу расширения границ пластических искусств, по-разному решалась художниками первой половины ХХ века. Театральные «синтезы» футуристов, дадаистские опыты абстрактного кино, движущиеся конструкции Марселя Дюшана, Наума Габо, Джакомо Балла, мобили Александра Колдера, линейные эволюции Пауля Клее, наглядно показывающие сам путь становления формы, эксперименты с меняющимся светом Ласло Мохой-Надя, того же Джакомо Балла и многое другое – примеры частных решений общей стратегической задачи. Находки Пабло Пикассо в этой области достойны специального внимания, ибо ему удалось вызвать движение форм, не покидая поля живописи, создать своего рода сценические скетчи на холсте, перформансы, заключенные в раму.
Речь шла не о том, чтобы передать реальное движение средствами живописи (это уже было достигнуто мастерами прошлого), но о том, чтобы создать движение, вызвать перемещение, перегруппировку живописных форм. В картинах и рисунках конца 1910-х – первой половины 1920-х годов эти встряски и сдвиги достигаются энергией взгляда, сканирующего картинное поле. Изобразительная неопределенность, «вопросительность» живописного текста провоцируют поиск «верной» формы. В пикассовском переложении на дивизионистский язык картины Луи Ленена «Возвращение с крестин» (1917) фигуры колеблются за точечной завесой, сквозь которую проступают образы, отсутствующие в оригинале. Фигуры «Трех музыкантов» (1921) складываются из отрывочных форм, которые можно комбинировать по-разному. В густых затенениях, в ярких световых пятнах «Трех женщин у источника» (1921) выплывают некие «посторонние» предметы, понуждающие иначе прочесть как будто вполне очевидный сюжет. В «Танце» (1925) из лондонской галереи Тейт танцующая фигура отбрасывает тени и отблески на оконное стекло, превращая эти ирреальные персонажи в своих партнеров. Вольно плывущие конфигурации Пикассо рассчитаны именно на эвристические свойства зрения, пребывающего в непрерывном движении, в поиске, творящего поток метаморфоз.
Опыты, проведенные в 1957 году психологом А. Л. Ярбусом, наглядно продемонстрировали, что при рассматривании изображений глаз движется скачками (саккадами), фиксируя отдельные точки картинного поля. Таким же образом мы обозреваем и реальные объекты – не плавным перемещением, но мгновенными бросками, так что зрительный аппарат не успевает отреагировать на промежуточные стадии.
Композиции Пикассо, наполненные разрывами и пересечениями, схватывают и стимулируют этот заданный природой ритм. Саккады взгляда непроизвольны, бесконтрольны, поэтому выпрыгивающие фигуры застают нас врасплох. При фиксации разных точек, даже близлежащих, формы группируются по-разному, вызывая поразительное впечатление движущейся, ожившей живописи. Чутьем гениального художника Пикассо нашел способы подключить психический аппарат к своим картинам, то есть в буквальном смысле одушевить их, наполнить пульсациями человеческого сознания. Энергия человеческого зрения сдвигает и перестраивает формы, творит то, что Пикассо называл метаморфозами.
Здесь уместно было бы вспомнить замечательную дзэнскую притчу: «Двое монахов спорили о флаге, один говорил: “Движется флаг”, другой: “Движется ветер”. Мимо шел шестой патриарх. Он сказал: “Ни флаг, ни ветер – движется ум”»[384]. В беседах Пикассо не раз ссылался на дальневосточную традицию в понимании искусства и даже говорил, что хотел бы быть китайцем.
Его картины мобилизуют эвристические ресурсы человеческого восприятия, причем доля зрительского соучастия так велика, что становится невозможно провести сколь-нибудь определенную грань между замыслом художника и собственным субъективным видением. Пикассо вполне осознавал это: «Интересно, что люди видят в живописи то, чего ты в нее не вкладывал, – они вышивают по канве. Но это не играет роли, поскольку то, что они увидели, дает стимул, и существо увиденного ими действительно присутствует в картине»[385].
Формирование сюжета зависит от тех мишеней, в которые попадает глаз, от темпа и последовательности саккад. Это особенно хорошо видно в двух версиях «Трех музыкантов», где фигуры собраны из бумажных клочков, в подражание коллажу. Вслед за движением глаза по картинному полю они также начинают двигаться, перескакивать из одной позиции в другую, незаметно вовлекая нас в представление. Позы и жесты, группировки меняются спонтанно, в зависимости от случайного падения взгляда в ту или иную точку. И в силу этой случайности события на холсте развиваются с непредсказуемостью хорошо закрученной интриги. Они не зависят от наших намеренных усилий «постичь» картину, поскольку цепляются за более глубокие, предсознательные психические процессы. Мы просто созерцаем спектакль, развертывающийся на наших глазах. В этом есть сходство с бросками игральных костей или выпадением карт. И не случайно эти предпочтительные модели математической теории вероятности и связанной с ней теории игр стали, со времен кубизма, излюбленными мотивами Пикассо. Остается лишь хорошо осознать, что в вероятностном мире нет истинных и превратных толкований. Что мы видим, зависит от того, как мы смотрим. Но именно в этом, очерченном самим художником, поле «объективных случайностей» разыгрывается основное действие картины – то, что Пикассо называл драмой.
Ознакомительная версия.