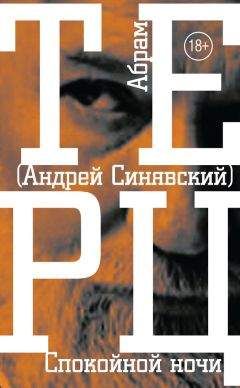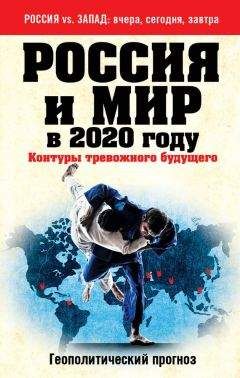преобладать кровь. Смерть приходит гротескно и графически ясно, чтобы встряхнуть читателя, вернуть в реальный мир, поскольку фантастичность Человека-невидимки противопоставляется жестокой реальности убийства при побеге из лагеря, когда Синявский задерживается на описании человека, превращенного в безжизненное мясо: «В мясных лавках видали говядину? Вот точно такого же цвета и состава».
Однако насильственная гибель заключенного – это не только отношения дичи и охотника, невинной жертвы и безжалостных преследователей, но и «сбой связи», отсутствие коммуникации: зек, безобидный лагерный сумасшедший, который слышит голоса и живет в мире своего воображения, – не более, чем еще один двойник писателя [196]. Его бессмысленная и жестокая смерть из-за неспособности охраны понять его действия: «И ничего не стоило просто увести его за руку, как ребенка, с запаханной земли, из отсека, – когда по нему открыли огонь» [Терц 1992, 2: 425].
Вторая глава «Спокойной ночи» – прежде всего история о коммуникации и роли литературы в ней. Абсолютный провал коммуникации, как в случае с «не совсем нормальным психически, но тихим и рассудительным зеком» Клаусом, и фатальные его последствия компенсируются парадигматикой сопричастности, напрямую связанной с тем, что и как писал Синявский в лагерные годы. Рассказы, притчи, анекдоты, как вымышленные, так и реальные, составившие главу, звучат на фоне истории любви – истории о литературе, которая по самой своей природе преступна и таит в себе опасность, но которая в своей идеальной форме есть любовь и диалог.
Синявский отдает должное Марьи Васильевне в своей версии блатной песни, в нескольких строках набрасывая историю о «бандите» и его молодой любовнице. В пьяной драке бандит выхватывает нож, и его подругу обвиняют в том, что она дала ему потенциальное орудие убийства. «В неистовом изумлении» девица вопит в ответ: «Да-a, люди добрые. Сунула ему ножик… Сама-а. Так я ж его – люблю-у-у!.. Я ж его, бандита, люблю-у-у!» [Терц 1992, 2: 408]. Синявский не может не поиграть с воровской романтикой: перо на фене означает нож, а Марья Васильевна, как «маруха», всегда поддерживает его в самых смелых и «преступных» литературных начинаниях; в тюрьме она не только дает ему идею для книги о Пушкине, но и вооружает его бесконечным запасом перьев (на этот раз в буквальном смысле) [197].
Язык часто не справляется с поставленными задачами. Разворачивая широкую и сложную аллегорию о лесах и древесной чаще, прямо и полунамеками, буквально и метафорически, Синявский ведет читателя от шекспировских ведьм (такова «университетская старуха в усах, с мировым именем <…> Сама Шекспир», названная «бабой-ягой» и цыганкой), через Бирнамский лес (связывающий «темные пророчества» с пушкинским вещим Олегом), а оттуда – к черным елям на склонах швейцарских Альп. Тот лес, как «немощная словесность», связан с подъемом «подельников и сподвижников <…> на высоту гробниц». Он обречен на провал, но «какой порыв к невозможному, и та же готовность сойти на нет в обеспечение побега <…>». «Обреченная на неудачу попытка выйти за пределы отведенного нам языка» [Терц 1992, 2: 423–425].
Истинное общение может обойтись даже без слов, если его дух – дух сочувствия и понимания. Как, отчаявшись от невозможности писать на неприступных стенах потьминской пересыльной тюрьмы, Синявский коснулся их и почувствовал «долголетнюю дрожь из-за стен», от тысяч и тысяч побывавших там людей, так и в маленькой, похожей на камеру комнате Дома свиданий, где он «ходит и ходит туда-сюда», выясняется, что это похоже на «настройку на звуковую волну»; это напоминает зверей в клетках:
Попав в неволю, исчаявшись, они не ищут выхода, но, чтобы не издохнуть, вступают путем хождения в некий резонанс с иными пластами пульсирующего всюду сознания и живут уже на правах литературного бытия, которое не упирается в стену, а просто-напросто ее минует и, рассказывая о себе, вслушивается в такт всемирной, речитативно доносящейся жизни, в согласованности с которой, сами того не ведая, мы существуем и думаем [Терц 1992, 2: 451].
Не имея временами ни бумаги, ни карандаша, Синявский учился общаться не словами, а всеми фибрами своей души. Так он «настраивается» на стены тюремной камеры. Так он общается с Марьей Васильевной, когда она приходит к нему на тюремное свидание, упивается ею, впитывает ее:
Я начинаю с лица, как с самого главного. Не знаю у мужчины, но женщину мы любим и выбираем за лицо. Жестоко. Не выбираем – впадаем в сеанс лица и катимся вниз водопадом, летим, разбиваясь о камни, едва увидим» [Терц 1992, 2: 405].
Мало слов звучит на их встречах. Скорее речь о жестах, прорисованных в воздухе словах, фразах на блокнотных листах, затем разорванных мелко-мелко, как вермишель и смытых в унитаз. Каждое предложение, даже уполовиненное, уже понято.
Общение – акт самой любви, способ завершить «то, что не выразить словами», акт самосохранения. Грех превращается в спасение, а смерть – в жизнь: они повторяют то, что многие другие делали до них: «долголетняя дрожь из-за стен».
Сократив очевидных «Отцов и детей» до просто «Отца», Синявский передает отцу ключевую роль в своей истории и в решении стать писателем. В основе этой, центральной, главы – конфликт поколений: отца, со студенческих лет ушедшего в революцию дворянина, который стал в конце концов лояльным советским гражданином, и сына, воспитанного при советской системе, но по своему идеализму и эстетическим наклонностям скорее революционера и романтика. Между ними – пропасть сталинских лет. Мост через эту пропасть и воссоединение Синявского с его отцом, тематическое ядро этой главы, напоминает о мотиве преследования и преследуемого в контексте темы искупления и воскресения в «Преступлении и наказании».
Центральная роль Доната Евгеньевича Синявского в автобиографическом романе его сына – не только дань уважения, но и неотъемлемая часть самооправдания Синявского перед лицом прошлых и нынешних испытаний, восстановления в правах. В то же время тема предательства, которая проходит через всю главу, относится не только к многолетним обвинениям против Синявского, но и к измене идеалам революции, которая воплощается в отношении государства к Донату Евгеньевичу. Это, в свою очередь, переплетается с чувством вины Синявского перед отцом. В обоих случаях вина Синявского, так или иначе, связана с его творчеством.
Синявского не оставляло чувство, что в 1951 году именно его, а не отца, должны были арестовать [198] [Терц 1992, 2: 482]. Хотя отец оставался преданным советской власти, сын занялся «подпольным», «антисоветским» писательством. Чувство вины Синявского еще больше усугублялось ощущением, что его решение начать писать было предательством отцовского наследия: «Он не пошел по стопам отца и, выбрав искусство, чистое