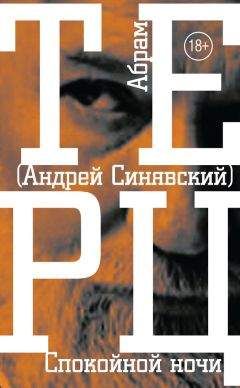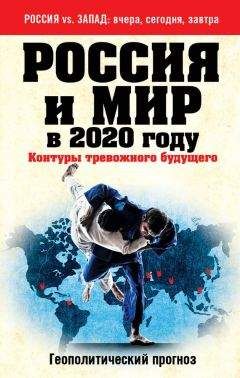«на букву Пу» с названием популярного слабительного (пурген).
Тематическая преемственность, которая настолько тесно связывает эту работу с его книгами о Пушкине (и Гоголе), становится еще более явной по мере понимания того, что «Спокойной ночи» – попытка писателя отстоять свое право на формирование собственной идентичности. Пассивный залог («меня взяли») в описании задержания писателя органами госбезопасности, которым открывается роман, переходит в активный, когда Терц, его писательское «Я», берет в свои руки контроль над происходящим, не излагая ход событий, а стилистически доминируя над ними на уровне текста. По «сюжету» его биография расстается с официальной историей, чтобы войти в сферу литературного и фантастического.
Язык, лежащий в основе несогласия писателя и с советским государством, и с его противниками в эмиграции, – язык, сформировавший его как Терца, – занимает теперь центральное место в его самозащите, полемике и целостности. Метафоры здесь – не просто то, за что можно «поплатиться головой», но и нечто, заново берущее на себя функцию трансформации. Он бросает ярлык «перевертыш», применявшийся к нему (и Даниэлю) в период до судебного разбирательства, в лицо своим обвинителям, делая его названием первой главы. Термин «злословие» в устах его недоброжелателей тесно связан с плюрализмом, предполагающим множественность и изменчивость идентичности. Теперь Синявский воспринимает это как знак чести, поскольку Терц считает определяющим свойством магический дар метаморфозы – «перевертыша» и «оборотня», очищенного сейчас от всех негативных политических и идеологических коннотаций, свойственных этому слову в его советском понимании.
К дару самопреобразования добавляются преимущества нелегитимности, поскольку Синявский в очередной раз творчески эксплуатирует выдвинутые против него обвинения. Его провозглашали наследником не Достоевского, а Смердякова [Кедрина 1966: 2]. Однако, как Синявский показал в «Прогулках с Пушкиным», нелигитимность – это волнующее условие, освобождающее писателя, позволяющее ему творить себя. З. Кедрина пишет, что он использует свою «нелегитимность», чтобы войти в семью русской литературы через черный ход. Как будто в подтверждение этого своего неофициального статуса он завоевывает признание собратьев-зеков по дороге в лагерь. Воры-арестанты принимают его за своего: «И вам невдомек, как сейчас меня величают, как цацкают меня, писателя, благодаря вашим стараниям <…> Море приняло меня! Море приняло меня, Пахомов!…» [Терц 1992, 2, 401] [192].
Глава 2. «Дом свиданий» [193]
Родимся – то мы, как выяснилось, для тюрьмы. Но думаем всё – о воле, о побеге…
А. Терц «Спокойной ночи»
Действие второй главы автобиографического романа Синявского, «Дом свиданий», номинально происходит в лагере, но относится к лагерной жизни лишь косвенно, буквально потому, что «барачного типа гостиница», где заключенным раз в год разрешается краткое свидание с супругами и родственниками, расположена не в самом лагере, а «на рубеже лагерной зоны и вольной проезжей дороги», но еще и потому, что повседневная жизнь лагеря сюда практически не вмешивается.
Многослойное повествование, в котором преступления на почве страсти и литературные проступки становятся синонимами, а сказка принимает форму блатной песни. Авантюра и любовная история объединяются, и в этой главе провозглашается поэтика не тюремного заключения, а побега из тюрьмы и самореализации. Действие главы происходит на протяжении одной ночи, но текст расширяется благодаря множеству образов и описаний, отвергая и окна с решетками, и безжалостное течение времени, и лимит печатного листа.
Сказка – это нить, которая объединяет все воедино, от «банкета», который словно по волшебству предстает перед голодным заключенным: «на столе – что душа пожелает», до «прекрасной курицы <…> в синей обертке», которая чудесным образом появляется у запертой квартиры Синявских в Москве [Терц 1992, 2: 402, 446–448]. В этой сказке есть свои людоеды (стервозный охранник, лейтенант Кишка), ведьмы (и настоящие, и выдуманные) и добрая фея (тот неизвестный смельчак, что подкинул курицу к дверям и «как сгинул»). Но настоящей сказкой становится сама тюрьма: «страшная сказка, конечно, но писателю полезная» [Siniavskii 1995: VII]. Тюрьма – не просто что-то предопределенное, неизбежное из-за подпольной деятельности Синявского, но нечто, подсознательно придающее форму и содержание идее Терца, то есть необходимому совпадению писателя и его времени:
<…> здесь я, в общем-то, в собственной коже. Не просто как человек, вжившийся в окружающий быт, но нашедший себя наконец-то в произведении создатель. Что мне сладостно вползать в этой мучительный сад, полный дивных творений, продолжающий странным образом мою капризную мысль, мое длинное и скользкое обличие змеи [Терц 1992, 2: 440] [194].
Пластичность и метафорическое богатство языка связывают физическую и стилистическую стороны образа автора, позволяя ему легко переходить от одной ипостаси к другой.
Тюрьма представляет собой и символ, и источник трансформации, а способность к превращению, метаморфозе становится главным атрибутом писателя-героя сказки, подобного герою русских былин. Синявский потакает многочисленным возможностям своего альтер эго, тешась созданием собственных легенд и мифов. На этом уровне игры, преобладающем в начале «Спокойной ночи», Синявский определяет себя хозяином приключенческой истории, наполненной детскими фантазиями: профессор на пенсии превращается в гладиатора, Спартака, графа Монте-Кристо. Преодолевая препятствия, выкручиваясь из трудных ситуаций, он переигрывает своих многочисленных противников и исправляет несправедливости [195].
Романтика и приключения сливаются с детективом и научной фантастикой по мере того, как тюремная интермедия уступает место событиям, приведшим к аресту Синявского, а граф Монте-Кристо – Человеку-невидимке. Когда растет темная сторона реальности, возникает тема преследователя и преследуемого. Однако, как и в случае с другими лейтмотивами произведения, путь к серьезным вопросам начинается с игры.
Вопросы жизни и смерти, чести и предательства переводятся в мир литературы и фантазий: «Точно у нас тут развязка полицейского сюжета, макет настольной игры в сыщики-разбойники». Порфирий Петрович дышит в затылок Раскольникову [Терц, 1992з: 419].
Взяв за отправную точку реальные обстоятельства своего ареста, Синявский в очередной раз обращает в свою пользу ситуацию, навязанную ему властями. С момента задержания он оказался не-человеком, стал практически невидим для окружающих, таким образом получив чистый холст, на котором можно заново писать свою жизнь [Терц 1992, 2: 340, 357].
Человек-невидимка, одновременно двойник и метафора неуловимого, скрытого автора служит посредником между Терцем-героем и Терцем-писателем. Сказка движется между фантазией и реальностью, между текстом и Москвой, между Терцем и Синявским, с многозначным лейтмотивом снега для объединения разных уровней повествования. Снег становится квинтэссенцией преобразующего характера писателя и его прозы.
Притом это также воровская сказка, блатная песня, и в ней есть опасность.
Белый снег окрашивается красным: «<…> нож в смертное верчение, и лезвие, по древней примете, оросится кровью. Вот и доказательство. Кровь. Там, в штопоре, кто-то живой…». Смерть – реальная возможность выхода, когда герой пойман, но снег тает и в истории начинает