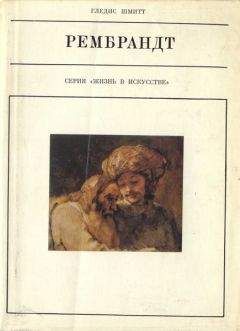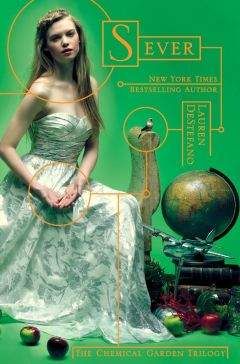В приемной по крайней мере пылает всеочищающий огонь и не так заметна чернота ночи за окнами — занавеси давно задернуты.
— Нет, благодарю — я тороплюсь в больницу. А завернул я к вам по дороге только для того, чтобы повидать вашего ученика Рембрандта. Мне пришлось тут извлечь утробный плод, и я хочу, чтобы парень нарисовал мне его, пока тот еще не разложился.
— К сожалению, ван Рейна уже нет, — ответил Ластман, стараясь не думать о разлагающемся утробном плоде.
— Уже нет?
Вопрос прозвучал так мрачно, что Ластман сразу сообразил: сейчас, когда свирепствует чума, слова «уже нет» понимаются обычно в совершенно определенном смысле — в том, в каком их могут завтра сказать про любого амстердамца, не исключая его самого.
— Я хочу сказать, что он еще на прошлой неделе уехал в Лейден.
— Уехал в Лейден? — Худое строгое лицо врача дрогнуло, и Тюльп рассмеялся. — Выходит, он бросил вашу мастерскую и пошел своим путем?
— Выходит, что так: он, по-видимому, склонен открывать душу лишь тем, кто верит в его гений, как в истину, не требующую доказательств, а я отнесся к нему недостаточно восторженно. Но у меня есть другой ученик, Ларсен…
— Не надо. Другой меня не устраивает.
Значит, доктора интересовал не столько утробный плод, сколько встреча с сыном мельника?
— Поверьте, Николас, самонадеянности у него было больше, чем таланта.
— Несомненно. Но весь вопрос в другом — сколько у него таланта?
Ластман посмотрел в темноту и различил мольберт, за которым работал раньше лейденец. Надо будет убрать его, да поскорее.
— Мне трудно судить об этом, — ответил он. — Ван Рейн не пробыл у меня и полугода.
— У вас остались его работы — картины, рисунки?
Ну почему все они — и Тюльп, и госпожа ван Хорн, и Алларт, и маленький Хесселс — никак не выбросят из головы этого малого? Просто злость берет!
— Только клочки и обрывки — наброски вроде тех, что вы видели в прошлый раз. Кроме них — всего одна незаконченная картина.
— Я покупаю их. Да, да, я не шучу — я в самом деле покупаю их. Сколько они стоят? Два флорина? Три флорина? Назначайте цену.
— Я обману вас, если запрошу больше одного флорина.
— Вам виднее.
— Вы бы хоть раньше взглянули на них.
— Зачем? Если они похожи на то, что я уже видел, значит, они достаточно хороши. Велите Виченцо завернуть их, ладно? Я зайду за ними на обратном пути из больницы.
Перспектива не из приятных! Виченцо ушел в театр, служанки к тому времени уже лягут в постель. Если Ластману не удастся разбудить одну из них, он должен будет сам открыть дверь позднему гостю, а ведь на сей раз тот явится, не приняв ванну и не окурив себя.
— Стоит ли беспокоиться? Завтра я все пришлю вам с одним из учеников, — предложил художник.
— Нет, эти вещи нужны мне сегодня. У меня выдался тяжелый день, а вечер будет еще труднее. Вот я и хочу вознаградить себя, посмотрев перед сном работы ван Рейна.
— Извольте, я приготовлю.
— Не вздумайте дожидаться меня — это глупо. Заверните их и оставьте в вестибюле. Никто их там не возьмет — сейчас слишком темно.
Держа в одной руке глиняную посудину, а в другой свечу, Ластман проводил гостя до двери, и, когда она захлопнулась за доктором, преградив доступ в дом порывам колючего ветра, художник со вздохом поставил горшок на стул у входа — он вернется за ним позже, после того как покончит с предстоящим неприятным делом. Тогда уж он с особенным удовольствием займется своей луковицей.
Возвратясь в мастерскую, Ластман опустил свечу на каменную плиту для растирания красок и открыл большой венецианский сундук, почти доверху набитый ученическими работами, которые складывались в него на протяжении многих лет. Самые старые из них, те, что лежали на дне, уже неприятно припахивали плесенью. Вещи Рембрандта, равно как и Ливенса, лежали наверху, и художник вытащил их, не рассматривая, наугад — все равно при таком скудном освещении ничего толком не разглядишь.
Пока он заворачивал их, опять пошел мокрый снег: по черным окнам что-то резко застучало, в камине, стоявшем на другом конце комнаты, резко зазвучали холодные вздохи ветра. Когда Ластман перевязал наконец рисунки бечевкой, вихрь студеных хлопьев, низвергавшийся с неба, еще более усилился, и, открыв входную дверь, художник увидел, что вся пустынная улица уже покрыта льдом. На то, чтобы выставить пакет, у него ушло всего несколько секунд, после чего он опять очутился в доме и тут же поймал себя на том, что вытирает пальцы о бархат камзола с такой тщательностью, словно прикоснулся не к бумаге, а к руке доктора. Сам не понимая почему, он чувствовал, что вестибюль — удивительно подходящее место для последних работ лейденца, которые врач унесет с собою, возвращаясь домой после полуночных трудов. Эти грубые, нежеланные вещи оказались там, где им и надлежит быть, — в безотрадной и безлюдной темноте зимней ночи.
На этот раз его превосходительство Константейн Хейгенс, личный секретарь принца Фредерика-Генриха, приехал из Гааги в Лейден не по государственным делам, а лишь для того, чтобы отдохнуть от треволнений гаагской жизни, навестить престарелую тетку, еще раз полюбоваться на церковь святого Петра, обшарпанную снаружи, но по-прежнему величественную внутри, и немного помузицировать со старыми друзьями.
В Лейдене жило немало людей большого ума и отличных музыкантов, и Хейгенс так наслаждался их обществом, что не успел даже соскучиться по жене. Он уже собирался обратно, когда вспомнил, что ему следует, хотя бы из простой учтивости, привезти принцу Фредерику-Генриху, своему покровителю и путеводной звезде, небольшой подарок — папку с рисунками или серию гравюр, если здесь, разумеется, можно найти что-нибудь в этом роде: нынешний глава государства почитал долгом своим поощрять изобразительные искусства.
Однако Хейгенс вскоре выяснил, что Лейден представляет крайне ограниченные возможности для подобных поисков. По словам местных чинов, которых никак уж нельзя было обвинить в недооценке собственного города, в Лейдене существовала всего одна настоящая мастерская, да и та пришла в упадок лет пять тому назад, когда двое учеников художника сбежали от него в Амстердам в надежде определиться там к более модному учителю. Но так как другой мастерской в городе не было, Хейгенс велел своему слуге сходить туда и справиться у господина ван Сваненбюрха, который, как рассказала Хейгенсу его дряхлая тетка, был одним из немногих уцелевших представителей старой лейденской знати, не будет ли тот любезен принять его сегодня в восемь часов вечера.