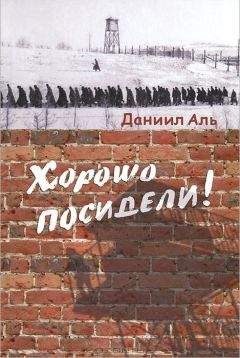Таким же было противостояние сторон в условиях допросов и казней во время революции и гражданской войны. Хотя в те времена многие понятия и смещались в круговерти судеб на волнах моря крови.
Человек нашего поколения «политических арестантов» до ареста был по одну сторону «баррикады» со своим следователем, был воспитан в духе одной идеологии, в одних и тех же понятиях революционной чести и морали. Не будем здесь вдаваться в оценку этих понятий. Любой кодекс чести и морали имеет свои сильные и слабые стороны. Мне, например, как историку периода становления самодержавия, хорошо известно, что в основе дворянской чести лежит холопская верность царю. И предки тех же декабристов не один век подписывали свои прошения или донесения царям униженным — «холопишко твой Алешка Трубецкой» (или Ивашка Муравьев, или Петунька Волконский и т. п.). За холопскую свою службу получали дворяне свой «земельный оклад», свой «корм» и свое «величание», стараясь вырвать один у другого кусок побольше. Такова же была высшая царская служба и во времена декабристов. Вспомним — «Вы, жадною толпой стоящие у трона, свободы, гения и славы палачи».
Разумеется, лучшие из дворян, — те же Пушкин и Лермонтов, те же декабристы, тяготились этой стороной кодекса дворянской чести, старались включить в него понятия служения отчизне — общей и для них и для народа, становились народными заступниками, шли за народную свободу в бой. И все-таки «угомонить» «крови спесь» было трудно даже для Пушкина. И даже он считал возможным и полезным находить общий язык с царями. И декабристы нашли этот общий язык, оказавшись в крепости. Слишком сильна была дворянская закваска.
Кодекс чести, в котором было воспитано наше поколение, содержал свой главный параграф — верность идеалам революции и своей советской стране в непрекращающейся борьбе с врагами, с буржуазией и ее прихвостнями. «И как один умрем за дело это», — пели отцы или деды моих сверстников, сидевших в сталинских тюрьмах. За первое в мире государство рабочих и крестьян, за социализм (построенный или еще строящийся) шли в бой и погибали миллионы их сверстников. И не только на смерть «за дело это» шли поколения советских людей — верноподданных революции. Шли на жизнь, полную лишений и тягот, терпели эти лишения и тяготы ради светлого будущего, верили в него. Многие успели разочароваться в Сталине, другие, кто постарше, всегда знали его как злобного властолюбца. Многие резко осуждали (иногда даже вслух) сталинский террор, рассматривая его как контрреволюционный переворот — многие осуждали коллективизацию. Многие с иронией и возмущением относились к «Краткому курсу» истории партии как к сплошной фальсификации. Многие сочувствовали «врагам народа» — бывшим соратникам Ленина и героям Гражданской войны. Но все дурное и мрачное рассматривалось как отступления от великого дела, как его извращения, которые связаны с теми или иными конкретными обстоятельствами и которые со временем будут изжиты. Уродства и ужасы сталинского режима — такова диалектика той эпохи — только укрепляли веру «истинного и честного» строителя светлого будущего в свои идеалы, потому что давали ему простое и убедительное объяснение всех неудач, провалов и кровавых методов управления страной. «Сталин виноват, виновата его политика, а вот если бы не это.» Сегодня ужасы и безобразия сталинского режима окрестили — «деформациями социализма». В сталинское время этого термина, естественно, не существовало, но смысл объяснения характера развития страны после Ленина был примерно такой же.
Впрочем, враждебно к Сталину относились в основном те, кто был репрессирован, да и то не все. Большинство же населения в городах считало, что он ведет народ хотя и трудной, но единственно правильной дорогой к светлым далям свободы и благополучия.
Итак, обвиняемый сталинских времен видел в следователе карьериста — либо отступника от общего великого дела, либо человека, введенного в заблуждение лживыми материалами, состряпанными карьеристами-оперативниками, с помощью стукачей и запуганных свидетелей. Со своей стороны, следователь — служитель системы — видел «славу» своего труда в том, чтобы разоблачить, заставить признаться во враждебной деятельности обвиняемого. К этой «славе» — то есть к поощрениям, повышениям в должности, к одобрению начальства, к правительственным наградам — стремились все следователи. Большинство из них, несомненно, понимало, что обвинения, которые они предъявляют своим подследственным, либо вообще ложны, либо гроша ломаного не стоят с точки зрения хоть какой-либо опасности для государства. Конечно, многие из этих следователей ощущали каким-то своим нутром, что сидящий перед ним обвиняемый для него личность чуждая и враждебная. Прежде всего, потому что интеллигент, излишне образован. Для некоторых «криминалом» было уже то, что данный человек по происхождению явно «городской».
Что касается моего следователя — Трофимова, — не сомневаюсь в том, что он отлично понимал лживость и фальшивость возведенных на меня обвинений. Но, будучи верным своему начальству служакой, тем не менее делал все, чтобы спасти эту «липу», состряпанную оперативниками, от полного провала. У меня не было при этом ощущения, что он испытывает ко мне еще и личную неприязнь. Скорее — так, по крайней мере, мне казалось, — он испытывал ко мне какой-то интерес. Это сказывалось в том, что он нередко заводил со мной разговоры на отвлеченные от существа моего дела, главным образом, исторические темы — о Петре, о Екатерине. (Я нарочно не называю в этом ряду Ивана Грозного, поскольку эта тема не была отвлечением от моего дела). Так или не так, но свою служебную задачу — упрятать меня в лагерь в качестве «врага народа» — Трофимов выполнял старательно.
На нескольких допросах и на очной ставке, на которой меня старался изобличать в каких-то нелепых разговорах один из знакомых мне сотрудников Публичной библиотеки, к тому времени осужденный по другому делу, присутствовал заместитель начальника следственного отдела подполковник Соколов. Эта личность заслуживает нескольких строк описания. Это был высокий, красивый мужчина лет тридцати пяти, с вьющейся светлой шевелюрой, в роговых очках на вполне интеллигентном лице. Он никогда не повышал голос. Он даже одергивал следователя, когда тот в его присутствии обращался ко мне на «ты». Он «убеждал» подследственных в том, что они отъявленные враги с помощью изысканных силлогизмов. В его речи то и дело мелькали обороты вроде таких: «Ну, вы же умный человек…», «Вы же не можете не понимать…», «Согласитесь — доказать недоказуемое — невозможно…» Словом, его амплуа было — мягко стелить. Несмотря на это, все встреченные мною заключенные, прошедшие следствие при участии Соколова, вспоминали о нем с ненавистью и содроганием. Не трудно было заметить, что именно он, а не тюфяк Козырев, управляет той фабрикой фальсификации, которую представлял собой тогда следственный отдел Ленинградского управления МГБ.