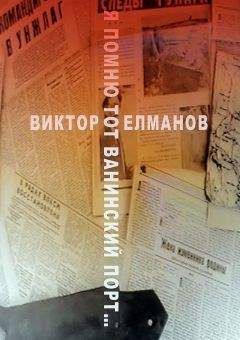Дети довольно долго прожили в деревне, до конца войны, а когда в 1947 году умерла бабушка, их забрали родственники отца Копманы: брата усыновили, а Наташу просто взяли к себе. Потом она окончила архитектурный техникум, по распределению отработала некоторое время в Орле, а после этого приехала в Ленинград, где мы с ней и познакомились в 1960 году. В Киеве она больше не жила. Мы часто приезжаем туда, много раз подходили к дому, где жила семья Наташи, смотрели в окна первого этажа — дом сохранился, но во дворе, по словам Наташи, теперь все иначе. И в доме, наверное, теперь все иначе, перепланировки всякие, мы туда не заходили.
Во времена хрущевского и послехрущевского прощения всех сидевших на самом деле никакого шума не было. Как будто ничего связанного с репрессиями не существовало. Причем не потому, что было под запретом. Просто у людей словно была вырезана часть мозга, в которой содержались эти воспоминания. Никаких разговоров, никаких вопросов, никакого интереса. Молчали все — и сидевшие, и несидевшие. Самое простое объяснение этому — страх. Сначала было так: бухгалтерия, сидят пять человек за столами, потом один пропадает — все молчат, как будто так и должно быть. Все прекрасно понимают, что его забрали, что он больше не вернется, — и тишина. Две гениальные книги написаны об этом — «Архипелаг ГУЛАГ» и «1984», так вот, у Оруэлла очень точно написано: «Смит пропал, Смита никогда не существовало». Этим предложением описана вся ситуация — каждый пропавший просто никогда не существовал, его мгновенно вычеркивали отовсюду. И почему-то считалось, что у нас ни за что не берут, если кто-то пропал — значит, так должно быть, он заслужил. Такое было общество.
А потом, когда я вышел, я вдруг обнаружил, что ни у кого, даже у родных, не было никакого любопытства относительно того, что происходило там, как это было. А я никому не рассказывал, потому что практически никто не хотел слушать. Своего рода самозащита, не страх — психологический ступор. Даже после того, как началась хрущевская реабилитация, ничего не изменилось, люди остались прежними.
Меня реабилитировали в начале 1960-х, где-то даже валяется справка. У меня и, думаю, у многих никаких чувств по этому поводу не было. Но я, конечно, не могу утверждать за других, потому что эту тему не обсуждали даже реабилитированные между собой. Знаю, что многие даже не подавали на реабилитацию — они считали себя настолько невинными, что даже реабилитацию воспринимали как признание того, что, пусть ошибочно, содержались в заключении. А об этом не хотелось даже думать.
Для меня сам факт реабилитации не имел особого значение — скорее, было ощущение, что справка потом может пригодиться. И мать заставила меня написать прошение о реабилитации. Но реабилитировали меня не самым легким путем. Сначала с меня сняли судимость и только потом выписали реабилитацию. И тогда я осознал самую главную нелепость ситуации: в анкетах теперь были пункты «сидел / не сидел» и «был реабилитирован». А дальше был еще один пункт — снята ли судимость. То есть я мог не писать, что сидел, а потом все равно должен был указывать про судимость.
В самом же процессе реабилитации не было никакой торжественности. Пришла повестка в жилконтору или в милицию, уже не помню, там выдали справку — и все. Но ведь и арест, и расстрел — все это тоже производилось совершенно буднично. Так что ничего удивительного. Просто такая удивительная страна.
Когда мы познакомились, все было сложно — я был женат на Люсе, у меня уже родился Андрюшка. А с Натальей мы очень долго не расписывались — наверное, лет десять, потому что мне все никак было не развестись с Люсей. Хотя мы все это время жили с Натусиком вместе.
Мы долго работали в одном проектном институте, в 5-м, работали в разных частях города — на Обводном канале, потом на Фонтанке, 41, где Ленконцерт, потом перебрались на Кантемировскую набережную — там построили большое здание, где работали многие из нашего института, то есть более или менее наши люди, нормальные, без всякой «вони».
Примерно в то время мы познакомились с одним из сотрудников 5-го института из другого отдела. Маленький, тщедушный, перекошенный человек. Однажды ветром унесло его шляпу — старую, ей было лет сорок, из нее уже борщ можно было варить, — и его жена возликовала: «Наконец-то можно будет купить новую!» Такой странный человек, но очень интересный, талантливый, светлая голова. И при этом, как часто бывало в те времена, он никому не доверял. Только совсем близким людям типа нас с Наташей — мы с ним сошлись. Евгений Николаевич Жидейкин, причем его фамилия не имела никакого отношения к национальности — он ею гордился и рассказывал, что происходит от некоего литовского Яна Мотейко. Они с женой жили на Фонтанке, и мы довольно часто общались. С ним можно было говорить на любые темы — он очень много знал, безумно много читал, и, более того, у него было собственное изобретение — картотека. На все случаи жизни у него были выписаны карточки: книги, источники и так далее. Его было легко завести — вечером ты кидал ему какую-то тему, а наутро он уже бежал в Публичку, рылся в архивах и приходил с кучей новых знаний. Он собирал интересные газетные и журнальные вырезки. У него был громадный архив вырезок, касающихся войны. Он умер году в 1975-м, причем как-то загадочно. У него начало что-то болеть в паху, он почти перестал двигаться. Но он всю жизнь не обращался к врачам, потому что ненавидел их. И в этот раз он долго противился, а потом, когда вызвали врача, было поздно. Хоронили его всем институтом. К нему всегда относились несколько насмешливо, немного издевательски. Но любили, потому что он был по-настоящему умным человеком.
В то время мы жили на Марата, 31 — в квартире, в которой раньше жили мои дедушка с бабушкой: бабушка тогда еще была жива, она прожила долго — 94 года, а дед умер в августе 1939-го. Конечно, это была коммуналка, но небольшая — нам принадлежали две большие комнаты, а в третьей, маленькой, жила соседка. Как-то я собирался на работу, одевался, за спиной что-то говорило радио — у нас телевизора тогда еще не было, зато в каждой квартире обязательно имелась радиоточка. И по утрам передавали множество разных объявлений, в том числе и о приеме на работу: прядильно-ткацкому цеху нужны ровничницы, государственному предприятию «Красный чайник» нужны такие-то, такому-то заводу нужны тростильщицы, прядильщицы и колондровщицы. И в том числе сказали, что Государственному ордена Ленина Эрмитажу требуются столяр, краснодеревщик и главный архитектор. Почему-то я запомнил это объявление. И через какое-то время, будучи на больничном, подозреваю, фиктивном, я проходил мимо Эрмитажа и решил зайти и проверить. «Здравствуйте, я слышал по радио объявление…» — «О, прекрасно, заходите». Взяли меня под белы ручки и отвели в отдел кадров: «Правда, архитектор у нас уже есть, а вот главного архитектора нет». Я говорю: «Подождите, я совершенно не претендую на должность главного архитектора, куда мне, ну что вы…» А мне отвечают: «А почему нет?» И ведут к заместителю директора по административно-хозяйственной и финансовой части — громадный роскошный кабинет. Посидели, поговорили. Я сказал, что у меня есть два не очень приятных обстоятельства. Во-первых, я сидел. Но уже был 1967 год, так что по давности лет почти никто не обращал на это внимания. А во-вторых, я рассказал, что у меня нет высшего образования. А он в ответ губами шлепает — артист, впоследствии оказался страшно неприятным типом, бывшим начальником каких-то лагерей, у меня с ним было множество конфликтов все три года, что мы вместе работали, — так вот, он отвечает: «Знаете, у нас тут был один перед вами, как раз с высшим образованием, но с ним ничего не получилось, он оказался совершенно никудышным человеком…» Впоследствии я познакомился с ним — такой Бабенко, — и он оказался очень приятным человеком. Его съели в результате какой-то некрасивой свары, уволили совершенно незаслуженно…