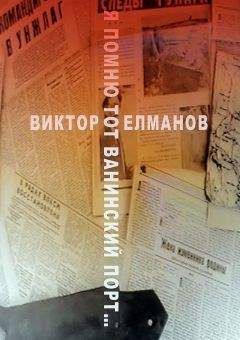В общем, мне сказали: «Давайте-ка мы попробуем теперь без высшего образования». Я продиктовал телефон своих непосредственных начальников, чтобы он туда позвонил. Потом сам предупредил их, но оказалось, что он никому не звонил. Потом я пришел в Эрмитаж в назначенное время, и началась обычная рутина — идите туда, напишите заявление, то-се, все как обычно. И уже во время моей работы там, когда я проходил испытательный срок, мне позвонили из отдела кадров и попросили принести справку об образовании. У меня была какая-то отвратительная желтая бумажка, напечатанная на разбитой печатной машинке еще дореволюционным шрифтом, я ее принес, а мне сказали: «А, оставьте ее у себя!» И вот таким образом я оказался в Эрмитаже, даже не подозревая, что буду связан с ним долгие десятилетия.
Так получилось, что моя жизнь делилась на этапы, на до и после, и дай Бог, чтобы больше не делилась. Как детство, которое до войны было одним, а во время и после войны стало совершенно другим. До эвакуации и после возвращения в Ленинград. До СХШ и после СХШ. До и после лагеря. И есть один этап, который для меня, возможно, важнее Воркуты, — работа в Эрмитаже, которая так или иначе продолжается и поныне. Хотя мне пришлось сделать большой перерыв — в 1975 году я был вынужден уйти из Эрмитажа и не работал там до 1992 года. Причем я не хотел уходить. И вообще, все было нормально — и работа прекрасная, и поганца этого, который губами шлепал, убрали. На его место пришел чудесный человек, Малышев, до Эрмитажа он работал в Театре Ленинского комсомола. Чудесный, нормальный, спокойный, добрый. При нем я проработал пять лет, а в общей сложности — все восемь. К этому времени я уже стал профессионалом, приобрел все необходимые навыки, для меня эта работа была как семечки. При этом, даже работая в Эрмитаже, я все еще не рисовал. Зато нашел приработок — халтурил в издательстве «Машиностроение», которое располагалось на Гороховой. Вообще я там начал халтурить задолго до работы в Эрмитаже, года с 1955-го, рисовал для них иллюстрации к техническим книгам, никаких мук творчества не испытывал.
У меня как у главного архитектора был маленький отдельчик — три человека. Самой весомой и нужной фигурой был Виктор Павлов — человек очень интересный, очень грамотный. Он занимался только устройством выставок, как постоянных, так и временных. Мы были с ним в прекрасных отношениях, и у меня хватало ума не влезать в его епархию. То есть сначала, конечно, все отнеслись ко мне настороженно — еще бы, новый человек. Но ничего, мы быстро нашли общий язык.
Еще один человек в отделе — мерзотная девка, которая до моего появления рассчитывала занять пост главного архитектора — а тут я. Но она совершенно не умела работать и, главное, не желала учиться. Она подавала чаи с печеньицами, моталась по всему Эрмитажу и была страшной сплетницей. И я очень долго не мог от нее избавиться, хотя часто обращался в дирекцию, объясняя, что она полный ноль. Но, как это было свойственно тем временам, мне говорили: «Как же, так нельзя, она женщина, у нее двое детей…» Уже потом, когда я ушел, а Виктор Павлов стал главным художником, она оказалась в его отделе, и ему как-то удалось от нее избавиться — она стала работать переплетчицей в одной из реставрационных мастерских. Хотя, еще когда мы работали вместе, он неоднократно говорил мне: «Брось, не обращай внимания, подумаешь, баба-дура. Плевать, пускай числится тем, кем хочет». И была в моем отделе еще одна женщина, странная, она у нас считалась садовником — инженером по зеленому строительству, хотя все эти должности были в общем-то выдуманными, фиктивными, чтобы получить еще пятерку к зарплате. Она была склочной, постоянно провоцировала конфликты и в результате уволилась.
Отдельчик тихонько работал, но мне нужен был человек, который бы чертил, так что года через полтора я принял на работу Натусика. И сразу пошли разговоры — вот, жену взял. А я всегда отвечал: это вас не касается. И Наталья делала всю проектную, чертежную работу.
Мы в то время делали очень много интересных вещей. Например, дерево, кость и бумага требуют герметичности, так что мы делали герметичное оборудование для музейных экспонатов, для архивов и для выставок. Делали очень сложную штуку с выдвигающимися щитами для картино-хранилища.
В какой-то момент в Эрмитаже мы познакомились и стали общаться с Бобом Зерновым — замечательным человеком, настоящим корифеем, единственным в своем роде специалистом по немецкому искусству, в основном по графике. Но он в принципе был блистательным знатоком западного искусства. Я благодарен судьбе за знакомство с этим удивительным человеком.
Тут стоит остановиться и отметить, что атмосфера в тогдашнем Эрмитаже была странная. Народу меньше, чем сейчас, — около двух тысяч человек, причем в это число входили и бабушки, которые сидели в залах, и очень много рабочих разных специальностей — рабочий класс, гегемон, тогда был очень в цене. Гегемон все время утверждал, что не может сделать то-то и то-то. И с этим было довольно трудно бороться, потому что на дворе стояли годы процветания самой махровой гегемонии — с 1967-го по 1975-й. Гегемон вытворял что хотел, гегемону платили премии, гегемон ничего не делал: у нас не получится, потому что они напридумывали, а сделать этого нельзя, невозможно. Хотя мы понимали, что они просто ленивые сволочи. Из-за этих разногласий в столярной мастерской царили постоянные склоки и беспредметные споры, потому что именно в столярной мастерской, так получилось, сосредоточилось самое главное быдло — в столярной и механической. При этом в механической мастерской был, например, такой забавный человек Коля Калинин — рядовой токарь, который мог делать невероятные вещи. Но он был страшным пьяницей — он работал где-то с 9:00 до 11:00, может, подольше, до часу дня, и в это время он был настоящим виртуозом металла, потрясающий изобретательный работяга с прекрасной головой. Но потом, когда механическая мастерская начала расширяться, когда стали появляться новые люди, когда пришел новый начальник, его съели. Говорили — за то, что пьет, но на самом деле он просто был конкурентом остальным, потому что действительно работал по-настоящему.
Я попал в Эрмитаж не в самое удачное время — в начале февраля 1967 года, то есть года 50-летия Октября. Все стояли на ушах. В реставрации находились тринадцать объектов, причем некоторые были совершенно грандиозные — например, Иорданская лестница. И я попал в самую вакханалию. Сама должность предполагала, что постоянно находились идиоты, которые говорили: «Архитектор в Эрмитаже? А что там делать? Там же уже все построено!» Но мой отдел занимался не строительством, а в основном именно реставрационными работами — в большей степени по интерьеру и в меньшей — по фасаду. Но фасадные работы, естественно, тоже были. Наша работа была связана с подрядчиками, с заказом материалов, с процентовками, которые ежемесячно оплачивались в зависимости от сметы. С некоторыми было очень сложно работать, особенно с Фасадремстроем. Там прорабом числился некий Матвеев — хороший человек, но невероятный жулик. Он был очень добрым, но просто не мог не жульничать — такой представитель породы добрых жуликов. С ним я и вел основные бои. Однажды я от него даже получил взятку — 25 рублей! Все было очень смешно устроено — он долго водил меня по каким-то подвалам, а потом вручил деньги. Уверен, сам он на этом деле нагрелся будь здоров. При этом я до сих пор не знаю, за что он мне дал эту взятку.