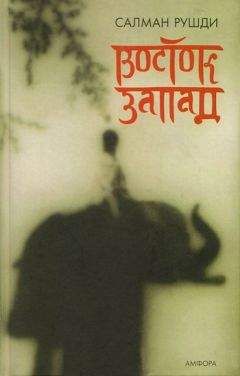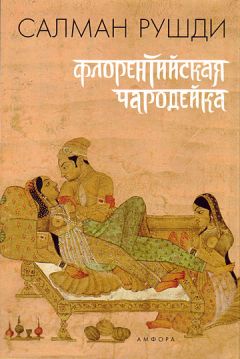Данило Киш жил в Париже, и в один прекрасный день ему туда пришло письмо от друга из Югославии. На первой странице письма стоял официальный штемпель: ЭТО ПИСЬМО НЕ БЫЛО ПОДВЕРГНУТО ЦЕНЗУРЕ. Видом Данило Киш напоминал Тома Бейкера в “Докторе Кто” и по-английски совсем не говорил. Сербохорватским, кроме него самого, никто из участников конференции не владел, так что дружили они посредством французского языка. Во время лиссабонской конференции Киш был уже тяжело болен – в 1989 году он скончался от рака легких, – болезнь затронула голосовые связки, отчего разговаривать ему было трудно. Карикатурный набросок, который теперь с любовью хранит изображенный на нем персонаж, в какой-то мере заменил им обмен репликами.
Перепалка во время “британской дискуссии” оказалась не более чем amuse-bouche [55]. Главным событием конференции стало жесткое противостояние между русскими писателями и теми, кто требовал признания в качестве представителей “Центральной Европы”, – в числе этих последних были Данило Киш, венгры Дьёрдь Конрад и Петер Эстерхази, живущий в Канаде чех Иозеф Шкворецкий и великие польские поэты Адам Загаевский и Чеслав Милош. Как раз наступила “гласность”, Советы впервые пустили на международный литературный форум не дурилок из писательского союза, а “настоящих” писателей вроде Татьяны Толстой. На конференцию приехали и ведущие писатели русской эмиграции во главе с Иосифом Бродским, таким образом, на ней произошло своего рода воссоединение русской литературы, событие очень трогательное (Бродский, например, отказался выступать на английском, потому что, по его словам, хотел быть русским среди русских). Все эти русские болезненно среагировали, когда центральноевропейские писатели, не разделявшие точку зрения своих итальянских коллег, будто дело литературы – связные последовательности слов, – когда эти писатели дружно принялись обличать гегемонские замашки России. Кое-кто из русских заявлял, что никогда и не слышал о какой-то там самостоятельной центральноевропейской культуре. Толстая добавила, что, если писателей так уж пугает Красная армия, у них всегда остается возможность последовать ее, Толстой, примеру, укрыться в мире собственного воображения и уж там наслаждаться ничем не ограниченной свободой. Предложенный ею выход оппонентам не понравился. Бродский постулировал в выражениях, прозвучавших пародией на фразеологию культурного империализма: Россия в данный момент занята своими внутренними проблемами, и когда она их разрешит, тем самым будут решены и все центральноевропейские проблемы. (Это был тот самый Бродский, который после фетвы присоединится к партии он-понимал-на-что-идет и он-это-сделал-намеренно.) Чеслав Милош, вскочив с места, начал горячо возражать Бродскому; в результате семьдесят с чем-то собравшихся в зале писателей стали свидетелями ожесточенного поединка двух гигантов, нобелевских лауреатов (и старинных друзей). Картина их поединка не оставляла сомнений, что на Востоке зреют великие перемены. Происходящее было похоже на предварительный просмотр падения коммунизма, на зрелище воплощения в жизнь диалектики истории, разыгранное перед лицом коллег со всего света двумя крупнейшими интеллектуалами региона, где она в жизнь воплощалась, – это представление на всю жизнь запечатлелось в памяти счастливцев-зрителей.
Если принять вслед за Гегелем, что история действительно развивается по законам диалектики, то в таком случае падение коммунизма и расцвет революционного ислама [56] демонстрируют принципиальную ущербность диалектического материализма, учения, полученного Карлом Марксом путем переработки идей Гегеля и Фихте и сводящего всю диалектику истории к борьбе классов. Взгляды собравшихся во дворце Келуш интеллектуалов из Центральной Европы и не имеющая ничего общего с ними, стремительно набирающая влияние философия радикального ислама – оба эти чуждых одно другому мировоззрения не оставляют камня на камне от марксистского положения о том, что экономика первична, что в основе любых исторических перемен лежат экономические конфликты, получающие выражение в классовой борьбе. В современном мире, где историческая диалектика выходит за тесные рамки противостояния между коммунизмом и капитализмом, культура тоже часто оказывается первичной. Центральноевропейская культура, противопоставив себя русскому засилью, способствовала разрушению Советского Союза. А то, что первичной бывает идеология, убедительно показал аятолла Хомейни с его присными. На авансцену истории выходила война между идеологией и культурой. Написанный им роман, на его голову, сделался одним из театров боевых действий.
Его пригласили в радиопрограмму “Пластинки на необитаемом острове” [57] – в Британии это честь почище любой литературной премии. Одной из восьми композиций из тех, что он взял с собой на воображаемый необитаемый остров, была газель на языке урду, написанная Фаизом Ахмедом Фаизом, близким другом его семьи, первым великим писателем, с каким ему довелось познакомиться, автором гражданской лирики – никто лучше его не написал в стихах о разделении страны на Индию и Пакистан – и ценимых многими стихотворений о любви. Фаиз научил его, что писатель должен в равной мере стремиться к публичности и приватности, умению быть арбитром общества и человеческого сердца. Другой выбранной им вещью стала та, что звучит под сурдинку на всем продолжении его нового романа, – песня “Сочувствие дьяволу” группы “Роллинг стоунз”.
Он несколько раз навещал смертельно больного Брюса Чатвина. Болезнь, среди прочего, подтачивала понемногу его мозг. Раньше он отказывался даже просто произносить слова “СПИД” и “ВИЧ”, а теперь с упорством маньяка твердил, что нашел верное лекарство. Он рассказывал, как звонил богатым друзьям, “Ага-хану, например”, и просил у них деньги на исследования, при этом ожидал финансового участия и от коллег-писателей. “Специалисты” из оксфордской больницы Джона Рэдклиффа были якобы “в восторге” и не сомневались, что он “на верном пути”. Параллельно Брюс вообразил, что книги его продавались “умопомрачительными тиражами” и он поэтому невероятно разбогател. Однажды он позвонил и похвастался, что прикупил полотно Шагала. У Брюса это была не единственная экстравагантная покупка. Его жене Элизабет приходилось тайком возвращать его приобретения, объясняя при этом, что муж не в себе. В конце концов его отец был вынужден через суд закрепить за собой исключительное право распоряжаться деньгами сына, что вызвало прискорбную размолвку в семье. У Брюса вскоре тоже должна была выйти книга, его последний роман “Уц”. Как-то раз он сказал по телефону: “Если нас обоих выдвинут на “Букера”, надо будет объявить, что премию мы поделим. Выиграю я – обязательно поделюсь с тобой, и ты, в случае чего, поступишь так же”. В прежние времена Букеровская премия вызывала у него только насмешки.
В заказанной ему газетой “Нью-Йорк таймс” рецензии на “Дорогую Мили”, сказку Вильгельма Грима, вышедшую с иллюстрациями Мориса Сендака, он не преминул выразить восхищение большинством работ художника, однако не мог не отметить некоторую вторичность данных иллюстраций по отношению к более ранним произведениям великого мастера. После этого Сендак сказал в интервью, что обиднее рецензии не было в его жизни и что он “ненавидит” того, кто ее написал. (Впоследствии