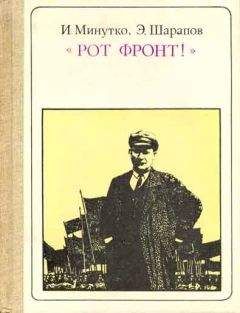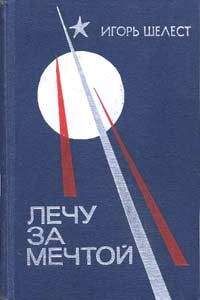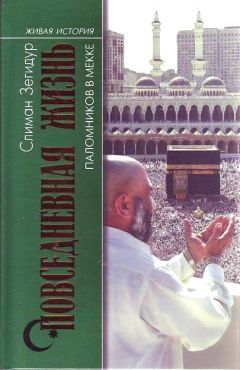«Мы извлекли уроки из кровавых боев в Гамбурге в 23-м году, - думал Эрнст Тельман, прохаживаясь по тюремной камере. - Мы сделали необходимые выводы, и один из них: пролетарское восстание всегда - дело интернациональное. На помощь борющемуся пролетариату спешат братья по классу из других стран. Вот и сейчас, в Испании... Если бы вырваться на свободу!»
...О, будьте прокляты тюремные стены!
Из письма Эрнста Тельмана жене и дочери 3 марта 1937 года:
«..Какая все же пропасть колоссальная между жизнью на свободе, во внешнем мире, и жизнью в этом подневольном и мрачном тюремном мире! Как много страданий вынужден годами терпеть заключенный, не будучи в состоянии ни ослабить, ни предотвратить их! Разве поэтому не становится тем более понятным, что заключенный воспринимает и переносит те или иные тяготы гораздо тяжелее и мучительнее, чем человек, живущий на свободе, который в трудные часы жизни все же может искать и находить себе прибежище в перемене обстановки?..
...Часто приходится максимально напрягать всю силу духа и характера и полностью уходить в себя, чтобы преодолеть власть судьбы и не поддаться ей. Каждое преодоленное страдание прибавляет силы, увеличивает поток жизненной энергии. Даже если страдание тяжко, нужно стараться побороть его с помощью жизненной энергии и душевной силы, ибо в страданиях жизнь все же сохраняет свою ценность. Иной человек лишь в пучине страданий открывает самого себя, открывает в себе такие глубины, о которых не подозревал, открывает в этих глубинах такие сокровища, которые возвышают и вдохновляют его. Именно в отношении человека ко всей судьбе, в его уверенности в себе, постоянно и неразрывно связывающей должное и желаемое, и во всей мужественности его характера раскрывается его героическая сущность...
...Воля к самоуважению и самоутверждению, обнаруживающаяся в человеке, дает ему силу сопротивляться, чтобы не быть раздавленным судьбой. Ибо дуб остается дубом, где бы он ни рос. Какая неумолимо жестокая судьба с ее потрясающей повестью о страданиях, которые человек перенес, пройдя через самые тяжелые испытания на протяжении четырех лет заключения! Однако есть много-много людей, которым суждено нести и терпеть такое же бремя, как и мне.
Уже начинается пятый год заключения, а я не знаю, когда же придет конец этой муке!..»
...С утра была тяжелая голова, стучало в висках - повышенное давление. Не помогла пятнадцатиминутная зарядка, которой он упорно занимался каждый день. Уже давно отекло тело - сказывались недостаток движения и тюремное питание. Да, богатырское здоровье стало сдавать: несколько раз заболевал гриппом, мучили приступы гастрита. Все валилось из рук, даже чтение не привлекало.
Сегодня 18 апреля 1937 года. После обеда предстоит свидание с Розой. Хоть эта, единственная, радость.
Как всегда, на их встрече присутствовал следователь Хофман. У него была отвратительная привычка вмешиваться в разговоры Эрнста с женой или дочерью, задавать вопросы, провоцировать политические споры.
Свидания проходили в длинной унылой комнате, в которой стояли лишь голый стол да два стула, на которых сидели Тельман и Роза. Хофман обычно прохаживался вдоль стены, задавая вопросы или делая замечания.
Но на этот раз все было иначе. Роза, похудевшая, с розовыми пятнами на щеках, еще в дверях комнаты, не сдержавшись, почти закричала:
- Эрнст! Они забрали всю твою переписку!
- Как? - Эрнст почувствовал, что ему не хватает воздуха. - Как забрали?
- Вчера явились два человека из гестапо... - Роза села на стул. - Сейчас... Явились и потребовали, чтобы я отдала им все твои письма и открытки...
- И ты отдала? - перебил Тельман.
- Они сказали, что в противном случае произведут обыск.
Эрнст повернулся к следователю:
- Господин Хофман, вы можете объяснить мне, что это значит?
- Охотно. - Следователь продолжал равномерно ходить по комнате. - Это, если угодно, оборонительная мера властей. Ваша переписка может быть использована подпольной коммунистической прессой в подрывных целях...
- Но ведь все мои письма и открытки трижды проверены цензурой! - Тельман еле сдерживался.
- И тем не менее. - Хофман мстительно улыбнулся. - Распоряжение утверждено в высших инстанциях.
- Польщен! - воскликнул Эрнст. Все клокотало в нем от возмущения и бессильной ярости. - Режиму Адольфа Гитлера, крепкому, как сталь Круппа, по утверждению доктора Геббельса, угрожают письма посаженного в тюрьму Тельмана!
- Кроме того, - как бы не слыша, сказал следователь Хофман, - я уполномочен сообщить вам второй пункт упомянутого распоряжения. Отныне все ваши письма дочь и жена будут читать в полицейском участке по месту жительства. И там письма будут оставаться.
- Эрнст, что же ты молчишь? - Голос Розы прервался.
Следователь остановился перед столом:
- Вы, господин Тельман, имеете что-нибудь сказать по этому поводу?
- Сейчас скажу...
Из ответа Эрнста Тельмана на письма товарища по тюремному заключению, январь 1944 года:
«...Эти письма были написаны с умом и весьма интересно, хотя бы для того, чтобы, насколько возможно, спасти их от конфискации, чего, несмотря на это, в ряде случаев не удавалось добиться. Эти письма, глубокие по содержанию, были искусно замаскированы политически и написаны с силой пламенной убежденности. В особенности важны были четыре письма, написанные в разные годы ко дню рождения моей дочери. С их помощью я воспитывал мою дочь из-за стен тюрьмы. В них к юности наступившей обращались годы бури и борьбы прошедшей юности, жизнь, созревшая в своем развитии, богатство накопленного жизненного опыта и знаний жизни - отец обращался к своему детищу. Но даже письма объемом от десяти до двенадцати страниц, где речь шла исключительно о мотивах творчества таких великих мастеров мировой поэзии, как Шекспир и Шиллер, были подвергнуты конфискации. Письмо о великом чуде XX века - о развитии Советского Союза, - надо полагать, так же не избежало этой участи. И уж совсем не приходится говорить о тех очень длинных новогодних посланиях, которые содержали обзор событий прошедшего года и анализ перспектив развития событий в новом году, - почти все они пали жертвой цензуры.
В напряженное время моей полной волнений тюремной жизни я смог почерпнуть из глубины своей души непредвиденно многое. Как человеку, обладающему сильными чувствами, самобытным мышлением и недюжинной силой воли, мне удалось придать этим письмам необычное содержание, самую живую форму изложения и необходимую степень зрелости. Оглядываясь назад на это тюремное время, оказавшееся для меня таким творческим, я вспоминаю сегодня следующее изречение Гёте: «Письма принадлежат к числу наиболее значительных памятников, оставляемых по себе человеком».