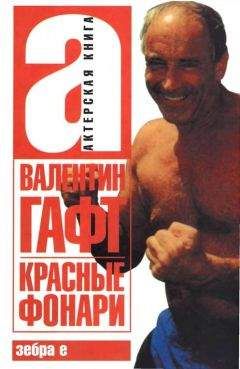Одно лицо из нарисованных было крупнее всех остальных и выполнено наиболее тщательно — головка рыжей девчонки, распустившей волосы.
Художник польстил ей в законченности черт лица, не сумев углем передать огонь ее волос. Дойдя взглядом до этого портрета, — рыжеволосая покраснела и улыбнулась.
Было среди рисунков и ведро с водой, из которого одна из безымянных пила, запрокинув его над головой, — Кузьмин с Газаевым не видели этого, это была шутка художника и, судя по одобрительным шорохам за спиной, — шутка была принята и понята.
В дверях бесшумно появился Газаев и глазами подозвал командира, давая понять, что случилось что-то важное.
— Прибыли к нам! Приехал переводчик из штаба, и с ним какой-то строгий капитан…
По лестнице, ведущей на чердак, слышались четкие торопливые шаги.
Девушки чуть отступили от картины, чуть сгрудились.
На чердак вошли двое: первым — подтянутый, плотно сколоченный капитан, за ним, неуверенно — человек в штатском.
Военный представился:
— Капитан Гладков.
Гаврилов поздоровался с ним. Капитан что-то тихо ему добавил — видно, назвал свою должность и повернулся к штатскому:
— Знакомьтесь — Вальтер Шиллинг, антифашист, наш друг и переводчик, русским владеет хорошо.
Шиллинг молча протянул руку и повернулся к девушкам.
— Это ваши подопечные? — утвердительно спросил он у Гаврилова.
Лейтенант кивнул.
Капитан подсказал ему:
— Вальтеру нужно поговорить с ними… без помех. Дело деликатное, контакт с мирным населением, сами понимаете!
— Так точно! — отозвался лейтенант и обратился к своим: — Освободить помещение!
Кузьмин потянулся рукой к своим листам, будто намереваясь сорвать их, но капитан, успевший все разглядеть, не поворачиваясь к Цыгану, тихо сказал:
— Зачем вы это? Пусть висят!
Повернувшись в дверях к капитану, Гаврилов спросил:
— А вы, товарищ капитан?
— Я не помеха! — капитан скупо улыбнулся. Скупо только потому, что зубы у него были не совсем хороши, не украшали его, а он не хотел терять свое лицо в женском обществе враждебной державы.
Солдаты нехотя спустились вниз, но не разошлись. Цыган отряхнул с себя крошки угля, огляделся, заправился и словно захлопнул в себе азарт и вдохновение последних часов — художник снова стал солдатом.
Минут через двадцать двое вновь прибывших спустились вниз, следом за ними дружной стайкой пришли монашки и встали у дверей, ожидая распоряжений.
Капитан подозвал Гаврилова.
— Лейтенант, ты хорошее дело сделал, не простое…
Он взял под локоть Гаврилова и отвел в сторону:
— Тут еще не все до конца ясно… Дай мне отделение, твои завтра с полком вместе вернутся — мне этих девиц в штаб полка нужно доставить целыми и невредимыми. Они нам здорово пригодятся… Тебе спасибо. Твоему солдату спасибо…
Он огляделся и позвал:
— Солдат, подойди.
Подтянуто и строго Кузьмин подошел.
— Слушаю, товарищ капитан.
— Твои художества наверху?
— Так точно, товарищ капитан.
— Твоя фамилия Цыган?
— Никак нет — прозвище. Рядовой Кузьмин.
— Не ори ты так. Спасибо! Хорошая рука, дай пожму! — и капитан протянул руку, — а теперь оставь нас с лейтенантом…
Кузьмин отошел.
— Вот тебе, лейтенант, на память и для разъяснения солдатам — капитан достал из планшетки небольшой лист газетной бумаги, сложенный вчетверо, и развернул его перед Гавриловым.
Лейтенант только рассмотрел рисунок — удивленно присвистнул и вопросительно уставился на капитана.
Обняв его одной рукой, приезжий что-то доверительно рассказал Гавриловну.
Вальтер стоял среди монашек, говорил с ними, они охотно отвечали ему и украдкой поглядывали на солдат, стоящих поодаль и глазеющих на них — неужели беда миновала девушек, и будут они жить себе спокойно?
— Быстро в машину! — приказал капитан.
Монашки делово и без суеты забрались в кузов «газика», Вальтер поднялся к ним, первое отделение осторожно примостилось в заднем углу кузова. Машина тронулась, рыжая монашка улыбнулась и помахала Кузьмину узкой ладошкой.
Цыган подмигнул ей двумя глазами сразу, будто сморщился, улыбнулся и тоже легонько помахал рукой.
— Леня, посмотри, что мне капитан дал…
Гаврилов протянул лист бумаги, и солдаты, видя, что лейтенант не делает из этого секрета, сгрудились рядом, полезли друг на друга, чтобы разглядеть.
И все возбужденно загалдели, удивленно переглядываясь.
— Что это?
— Листовка!
— Так это ж наш монастырь на снимке…
— И наши повешенные! И впрямь — повешенные…
— А что написано, командир?
Гаврилов передал им разговор с капитаном, — эта листовка появилась сразу во многих городах и пунктах на пути продвижения наших войск и призывает население дать кровавый отпор варварам, которые оскверняют монастыри, насилуют и вешают монашек, — причем все шестеро действительно монашки, и тут их имена, и откуда они родом, и… как зверски уничтожены…
— Так это ж брехня! — возмутился кто-то из солдат, — форменная брехня, кто ж такому поверит?
— Еще как поверят! Вот капитан и повез их в город, к тамошним властям церковным, чтоб доказать, что это брехня, а те уж пусть свой народ вразумляют… Контрпропаганда называется…
— Не знаю, как называется — контрпропаганда или просто пропаганда, а то хорошо, что девчонки живыми остались… — сказал Цыган.
Вместе с сумерками этого длинного и напряженного дня в монастырский двор вползала тишина, в которой все отчетливее начинали звучать далекие орудийные залпы.
В последние дни войны лейтенант Гаврилов был тяжело ранен. Победу он встретил в госпитале, но еще несколько месяцев не знал об этом, потому что не знал ничего, что происходило в этом мире: он был без сознания, он был не здесь, а где он был, не смог бы объяснить потом, ни он сам, ни его лечащий врач.
Когда он смог читать, он получил пачку писем от своего солдата Кузьмина и прочел их в последовательности написания, узнав подробно, где он и что с ним.
Потом были и другие письма и ответы Гаврилова на них. Результатом их стало то, что друзья встретились в сорок девятом году в Липецке в драмтеатре.
Потом они вместе кочевали по провинции.
Увечье не позволило Гаврилову стать актером, но однажды обожженный театром, он остался в нем насовсем — гримером — и преданно ездил вслед за своим другом актером Кузьминым.
В те годы, когда я работал на Урале, Кузьмина в театре не было — он уехал на высшие режиссерские курсы, потом на стажировку в Ленинград, а гример Гаврилов его терпеливо ждал.