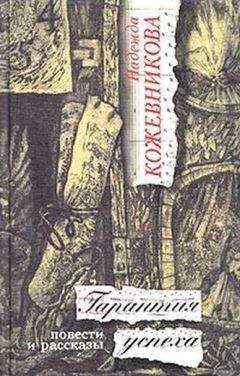— Да и вообще, — тут он проникновенно ладонь к груди прикладывал, — какие могут быть претензии ко мне? Кто я? Я — пешка. Родители, дай бог им здоровья, языкам иностранным обучили, могу на хлеб себе заработать. А остальное, глобальное — туда и не суюсь. Кишка тонка. Куда мне! Ни в экономике, ни в идеологии ни черта не смыслю.
Подобные разглагольствования Кеша нередко от Игоря слышал, но в то, что не удовлетворяло в отчиме его мать, старался не вникать. Ему даже иногда казалось, что мать излишне к Игорю придирчива. Любит человек футбол и любит пиво, — зачем же ему удовольствие отравлять? Оскорблять зачем, твердя о скотском — скотском! — эгоизме? И жалко, и непонятно, зачем она так, по пустякам, себя растрачивала, зачем?
Но Кеша не знал, что не могла забыть его мама: прошлого, прежнего отношения к себе. Вот что ее мучило теперь, терзало — отношение к ней покойного Юрия, отца Кеши. Да, она теперь полюбила сильнее, чем в молодые годы. Но только ее любили уже не так…
По субботам уроки заканчивались раньше, Кеша на конечной остановке садился в пустой троллейбус, занимал обычно место на последней скамье у окна. Ехать предстояло минут сорок, что по тем временам считалось расстоянием: Кеша с матерью жил в Черемушках, а серый глыбастый дом находился в центре старой Москвы.
Он ехал как бы к бабушке с дедушкой, но только в квартиру входил, сразу брался за телефон. Простой, давно назубок выученный номер. Правда, Лиза не всегда оказывалась дома, не всегда, значит, ждала его.
Хотя, если он ее заставал, в ее голосе звенела радость, несколько даже чрезмерная, будто он пропадал невесть как долго и вот наконец объявился — ура! А ведь расставание их не было длительным, Кеша раздумывал про себя: что же, Лиза о существовании его забывает, если не видит? Для него самого ниточка между ними никогда не рвалась.
И говорить с ней по телефону ему сделалось не так легко, как прежде. Он даже немного волновался, подыскивая слова. А она щебетала, ничуть вроде не задумываясь, мешая небрежности, принятые у них в кругу, с ласковыми обращениями, дорогой, милый, но употребляла их, по-видимому, только на правах старой дружбы.
Об этом Кеша задумывался тоже. Теоретически. Как в движениях, так и в чувствах ему была свойственна медлительность, что он сам в себе фиксировал, изучал.
Изучал он, пусть и не беспристрастно, и Лизу. Она подурнела к шестнадцати годам. Взрослое озабоченное выражение не шло ей, как не шла, ей самой мешала излишняя телесная округлость. Она как бы эти новые свои формы еще не обжила, чувствовала себя обремененной ими, пугаясь и вульгарной показаться, и стеснительной. Но для Кеши, как и раньше, именно в недостатках Лизы открывалась ее особенность, несходство ни с кем другим. Ровесниц ее красила обретенная женственность, и свою юность они вспоминали впоследствии как самую счастливую пору. Лиза же с ханжеской, надуманной, казалось, брезгливостью относилась к невинным еще интересам сверстников, осуждая в них то, что и неразумно, и преждевременно было осуждать. Но в ее подчеркнутой строгости замечалось что-то и ревнивое, даже завистливое: она чувствовала себя очень одинокой. Только Кеша, общение с ним восстанавливало прежнюю ее уверенность в себе.
Поэтому, когда Кеша звонил, она с радостью откликалась. Одевшись наспех, во двор навстречу к нему выбегала, и они шли вместе гулять. По тем же набережным, тем же переулкам, алчно втягивая ноздрями пестрый воздух, в котором уличные волглые пробензиненные пары мешались с запахами парикмахерских, столовок, ажиотажной магазинной тесноты. Все это при общей немоте звенело, пыхтело, клокотало, будоража, торопя их, подростков, — и уже не превращались ли их бесцельные вроде бы прогулки в побег?
Все напоминало им детство. Лишь они одни умели восстанавливать друг в друге прошлое и разом огорчаться переменам — извне, вокруг. Заметив обнесенный забором старинный особнячок, с беспокойством его обегали, стараясь выяснить: уж не предназначен ли он на снос? И садик, уничтоженный разросшимися корпусами зданий, в их памяти жить оставался: там астры сине-лиловые на клумбе росли, там бегали они от скамейки к скамейке, там, под кустом одичавшей сирени, Лиза когда-то зарыла «секрет».
И все же моментами Кеша замечал отдаление, отчуждение Лизы. Взгляд у нее тускнел, и она уже явно не слушала, о чем он рассказывает. А ведь он старался не отягощать ее внимание тем, что всерьез занимало его самого, отбирая из громоздкого вороха своих познаний лишь что-либо занимательное, развлекательное, как он считал. Что-то из мира животных, растений или какой-нибудь эпизод, вычитанный в исторических хрониках: «Ну ты представляешь?!»
Лиза в ответ хмыкала, но в выражении ее глаз Кеша видел порой снисходительное сочувствие, чего он ждал меньше всего.
Но он-то со стороны себя не видел, хотя и тщательно вглядывался в себя, озабоченный, так сказать, психологическими аспектами, соображениями нравственного, морального порядка, полагая с наивным высокомерием, что внешний его облик почти ничего не значит: да, он не красавец, а значит, окружающие должны оценить иное в нем.
Но и другие, и Лиза тоже обладали самым обыденным зрением, отождествляющим приятное, милое глазу с истинно ценным, дорогим, а в непривлекательности, напротив, находя доказательство как бы общего урона, неудачливости в широком, неограниченном даже смысле, ибо, как известно, лицо человеку дается однажды и навсегда.
Вместе с тем, как известно также, при известных усилиях, затратах и, что немаловажно, нацеленности на данный процесс, и при некрасивом лице, некрасивом теле можно добиться известного эффекта, снискать успех. И вот тут у Кеши не находилось оправданий — безразличие его к вещам, к одежде все границы перешло. Шапка с разлетающимися ушами на его большой голове выглядела безобразно, постоянно сползала, потому как была мала, тесна.
Короткие штанины при ходьбе вздергивались, открывая небесного цвета кальсоны, неаккуратно заправленные в носки. А пестрый, линялый шарф он поверх воротника завязывал, как его приучили в детстве. Прибавив к этому неискоренимую привычку ногти грызть, ухо теребить в задумчивости, можно было судить о впечатлении, им производимом, в тот, скажем, мартовский, весенне-зимний день, когда он с Лизой гулял по набережной Москвы-реки.
Когда она вдруг его удивила: они шли, разговаривали, и тут, завидев кого-то, Лиза вырвала свою руку из его руки. Злобность — вот что его в ней поразило. Поздоровались со встречными, прошли дальше, но он слышал, как она дышит — отрывисто, тяжело. «Ладно, — внезапно она остановилась, — домой пойду.