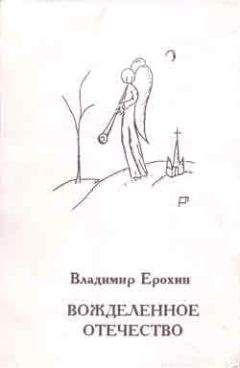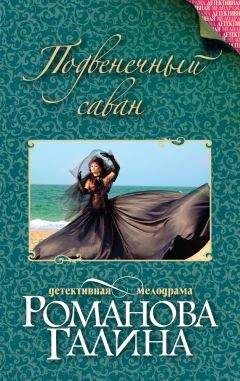"Я ещё девчонкой была."
Лицо у неё похоже на грецкий орех — тёмное, морщины глубокие, давние. Сквозь очки — глаза, трогательные — строгие и — готовые заплакать (не плачущие никогда). А строгость и к слезам готовность — знание скорби мира.
Мечта: прийти к ней на могилу — видится: уже тепло, трава (весна, может быть?) — посидеть (с Володей!), и — обязательно выпить (спирт или водку). У неё, у тёти Клавы — надо выпить, помянуть её. Тем утешаюсь.
После написанного.
Великий пост, тёмный, исчерна (чёрные платы и платки) храм. До Пасхи ещё далеко, и от начала Поста далеко — глубь поста. "Господи и Владыко живота..." И — трое выходят — спускаются по двум клиросным ступенькам, — в центр Церкви, перед закрытыми львиноголовыми царскими вратами, чёрной завесой изнутри задёрнутыми (золотом по чёрному). И — в тишине (пока шли, спускались, стали — тишь, сущее молчание) — "Да исправится молитва моя..." Тётя Клава большая, тётя Клава маленькая и — кто-нибудь третий, раньше — несравненная чтица Марья Николаевна, в последние годы — какая-нибудь третья старушка.
На "...молитва..." — тёти Клавино — октаву вниз — и сердце падает с нею, и замирает, и обливается слезами — "моя" — тёти Клавино в протяжении слогов — медленно выводит — одна, на тянущейся ноте — выводит ступеньки, лесенки своей партии, и — до начала "яко кадило" — в молчании её одинокий, строго-скорбный и торжественный голос озвучивает первую ноту, на которую наслаивается жалостная, звенящая дребезгом терция двух верхних голосов — Клавы маленькой и другой, безымянной старушки.
Я — знаю уже и эту тишину, и как тётя Клава в паузе между "моя" и "яко" — одна — одиноко возьмёт где-то внизу, в самой глубине — ниже не бывает, — из нутра мира — ноту, — и заранее, когда они идут к вратам, — начинаю стараться не плакать. И — смотрю, как они поют, и от этого старания и смотрения глаза выворачиваются из орбит, а моргнуть — слезу спугнуть, поползёт по щеке: стыдно. Не мигаю, застываю, и в горле тот самый — многократно в книгах описанный — ком, и — не дышится — пока не запоют "Утренюет бо дух мой" — только тут и можно (слегка!) перевести (отвести) — дыхание и моргнуть (и сморгнуть) — и — с новым вдохом и взором, с телом — абсолютно деревянным, застывшим — внимать, внимать до самых детски-немецких? итальянских? (почти из "любезного пастушка"), но воспринимающихся простонародными, просто — народными, деревенскими, в конце, пассажей — "Но, яко щедр, очисти".
Возвращаются и встают: мы — все оставшиеся скрытыми за хоругвями и огромной иконой клироса — встречаем; без слов — глазами; или — за плечи обнимаем — как после долгого пути. Встреча — всякий раз, как и провожанье — к алтарным вратам, на пение:
"Да исправится" — взглядом, "с Богом"; каждый раз это — рискованное (ответственность!) пение, не пение — делание, служение — пред людьми и Богом. И мы, остающиеся — и провожаем, и ждём обратно — как из морского плавания, из опасного путешествия — и благословляем всякий раз, и — пока идут, выходят — нет, до выхода — за них переживаем; а как пойдут, встанут, раскроют двойной нотный лист (зачем? Ведь знают все наизусть; впрочем — текст: а вдруг — собьёшься...) — уж не до волнения: застылость, глаза, ком — все внутри — неподвижность, предел напряжения, предел, который любое движение (хоть волнение тоже род движения, суеты души) — разрядить могло бы, спугнуть, сломать. А когда вернулись — ох, хочется дышать, вздыхать, обнять — да нельзя: служба идёт далее, нам — петь дальше, или— кланяться со священником, со всем храмом, со всем миром.
И вот, тётя Клава однажды, после такого возвращения, — об отце Александре (что-то тёплое им сказавшем) — мне:
— Ну, его. Петь не могла — смотрит на меня своими чёрными глазищами...
А я знала — не смотреть — не мог, наверно, всегда смотрел — в том же столбняке, как я и как весь храм — только она — вдруг, чрез столько лет — во время пения — заметила — смотрела, может быть, в тот раз обычными глазами, не — внутрь, вглубь, так что ничего и никого, — туда, откуда извлекала глубокие свои, глубинные ноты.
"Своими чёрными глазищами". Думал ли он тогда, смотря, — что когда-нибудь её не станет, и — как дорога она — драгоценна душой, выпевающей ТАКОЕ? Может быть... Или — глаза его были — изумление: вот она какая, вот оно какое, и что же это она делает, может делать, власть имеет делать — над душами — над ним, над всеми его детьми — учёными и неучёными, погрязшими и праведными, новенькими и теми, кто много лет слушает эти слова в исчерна-тёмном храме; бессловесная (словом известным, не — её) — тем, как она слово выпевает.
Наверное, смотрел — на всех, переводя взгляд, — он, слышавший за десятилетия этот распев — с тою же мелодией — другими, в других храмах — а тётю Клаву сжигал угольным взглядом — поняв, отчего здесь, этими старушками, петый напев так пронзительно ранит сердце — как и должно сердцу быть раненным в дни скорби о страстях — скорбью о раненом злом мире.
Если б меня когда-нибудь спросили: как это — "берет за сердце"? — я сказала бы: приезжайте Великим постом в нашу Деревню и послушайте старушкино пение; особенно когда три старушки в тишине выйдут пред алтарные врата, раскроют вдвое сложенный нотный листок и запоют. И когда в первой паузе сначала вступит одна из них — таким низким, очень низким голосом в тишине, и лишь потом вступят другие две, — тогда вы и сами поймёте, что это такое. Вы физически, сердцем — почувствуете — что оно взято — и не ваше — в чьи-то руки, и вам жаль будет, когда пойдёте по талому снегу от храма — что оно снова — ваше, ничьё, не чувствуемое вами (раз не болит — и не чувствуется, будто не существует — не напоминает о себе). И вы навсегда сохраните память и тоску по той тесноте и шири (сердцу тесно в сердце!), которой было оно томимо в исчерна-тёмном, в преддверии красной ясности, нашем храме.
А тётя Клава, верно, и теперь поёт в небесном хоре — может быть, девчоночьим каким-нибудь, восьмилетним своим голосом... Что поёт — это знаю наверное, ибо пение было — вся её жизнь.
Нынешний пост, храм — уже без тёти Клавы; и Клавы маленькой нет (больна). Меня выпихивают петь "Да исправится", альтом, дав нотный истрёпанный листок (некому больше). Поем — на средине храма, втроём: маленькая Соня, Наташа деревенская, я. Пою и вижу, что ноты не годятся: они, видимо, были не списаны — срисованы кем-то очень старательно, но приблизительно. Пою — памятуя о Клаве, её как бы голосом, в нотах читая только слова.
Отзвонив в колокола, мы с сестрой спустились с колокольни.
— Отец Александр, какие ваши ребята молодцы, — сказала староста. — Наши русские так не могут.