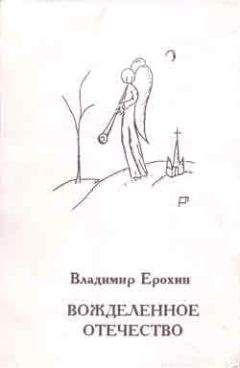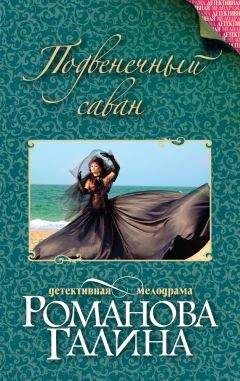УЛЫБКА ФОРТУНЫ
— Загорску ещё повезло, что у революционера оказалась такая красивая фамилия — Загорский, — сказал по дороге на станцию отец Александр. — А то был бы какой-нибудь Поросенков.
Поезд подкатил зеленой ящерицей пригородных вагонов.
— Пойдём туда, где грохочет, — сказал отец Александр, — там свободнее.
Часть четвёртая
ВОЛЧИЙ ХЛЕБ
Легко быть праведным тому, кто занят делом. Есть два пути к обретению счастья — удовольствие и истинный путь.
Стоит просыпаться на рассвете хотя бы для того, чтобы ощутить капитанскую свежесть обжигающего лицо одеколона.
Желание утром нырнуть поскорее обратно в постель, в тепло понятно — утренняя душа остро чувствует свою незащищённость перед холодным враждебным миром. Это подобно скрытому инфантильному влечению в материнское лоно, которое, по Фрейду, вообще лежит в основе влечения мужчины к женщине.
Фрейдизм мог зародиться в Австрии, с её мягким, умеренным климатом, располагающим к обыденной, прикрытой приличием эротике. Попал бы Фрейд в ваши российские условия, где все себе поотморозишь — не до секса! — пока-то отойдёшь в избе, за печкой. А в латиноамериканских странах, не говоря уже о каких-нибудь папуасах, Фрейда подняли бы на смех: тоже — открыл Америку. Конечно, его учение не было бы откровением для них, как для цивилизованного саксонского мира. Он бы ещё пошёл в обезьяний питомник свой фрейдизм проповедовать!
За завтраком мне вспоминался Ленин, который говорил:
— Мы твердокаменные марксисты, и у нас крепкие желудки, и мы переварим всех этих сомневающихся!
Зима в тот год была свирепая, много деревьев помёрзло с корней. Москва напряглась, упёрлась носами в воротники.
Еды в магазинах не было, одни рыбные консервы стояли, отсвечивая цинковой белизной, в колбасных и мясных отделах, что мерещилось предвестием новых, небывалых бед.
— Говорят, подморозит, — сказал мне в лифте граф Бодрово-Велигурский (в миру — Альберт Степаныч, или просто "Лёлик").
— А я как раз в командировку собрался.
— Далеко?
— В Пензу.
— А, в Тарханы?
— Нет, на родину Замойского.
— А-а... Сынок его, значит, в Париже, а ты — в Пензу? Несправедливо.
О какой справедливости тут говорить, подумал я, снимая тулуп. Ведь и вы, граф, не в лучшем положении.
Делая доклад на политзанятии, "Брежнева"
<….. (пропуск)>
он сказал: но потом поправился:
"Леонидильичабрежнева" .
Впрочем, все в конце концов приучились произносить скороговоркой полное имя:
— В новой мудрой книге товарища Леонидоильичабрежнева...
В райисполкоме дрались из-за книги "Целина".
Писатель Евгений Иванович Осетров называл Велигурского: "Чего Изволите?"
Райкомовская дама стояла, опершись промежностью об угол стола.
На щитке в кабине "козлика" были переводные картинки — женские лица в кружевных овалах: какая-то улыбчивая мулатка, строгая задумчивая русая шатенка западноевропейского образца, приветливая брюнетка. В картинках этих не было эротики, а скорее ожидание уюта и тепла — того, что называется мещанством, — все эти фарфоровые чашечки да рюшечки, все то, чего давно уже нет, и то, что удерживает людей от озверения, привязывая их к земле.
У тракториста в кабине тоже были картинки — черно-белые открытки с женскими лицами, но уже спокойнее, в мягких тонах — портреты советских киноактрис.
Бился в окна, тряс стекла, льдом налипал степной буранный ветер. Трезвон стоял от сосулек, колеблемых вихрем. Лохмато-снежная, муторная, ночь мигала глазами фонарей. По потолку метались тени, как будто, спутав времена, вновь подступали к городку лихие банды, вынырнув из метельной тьмы. И совершённой нереальностью была Москва, где валила толпа, крутились двери метро и горели, чуть слышно потрескивая, росчерки реклам, где пили кофе и говорили обо всем.
Колокола в жестяном рупоре отбили полночь. Считалось, что куранты играют "Интернационал", а на самом деле — ничего похожего. Поначалу, ещё при царизме, они исполняли "Коль славен". Затем, после красногвардейского штурма Кремля, когда снаряд угодил в Спасскую башню, часы замолкли. Починить их взялся известный художник-плакатист Черемных, получивший в награду полфунта воблы и мешок пшена. И стали они вызванивать никому не ведомый мотив, который принято было считать мелодией пролетарского гимна.
Оркестр грянул бессловесный, после хрущёвских разоблачений, гимн моей родины. Как говорил один старик, "раньше гимн пели, а теперь — только мимикой".
Вспомнился рассказ Виталия Шпагина, как Сталин вызвал к себе творцов этих, теперь уже забытых, слов и спросил, какую награду они желают получить. Эль-Регистан стал перечислять: дачу, машину,., что-то ещё — боясь, как бы чего не упустить. Вождь усмехнулся, как ему и положено, в усы, раскурил каноническую трубку и спросил, хитро прищурясь:
— А вам, товарищ Михалков?
— А мне бы, — скромно ответил создатель "Дяди Стёпы", — только ручку — которой вы подписываете сталинские премии.
И, конечно, получил все и даже сверх того, что запросил его простоватый соавтор.
Прощупывать меня Шпагин начал во время первой же моей поездки с группой писателей в Талдом. Шли дожди, и все боялись, как я опишу это природное явление. Но мой репортаж был этюдом оптимизма: "Дождливое это лето взметнуло могучие травы, иззеленило все вокруг".
То, что рабочие и крестьяне произносили, запинаясь, по бумажке заготовленные для них партработниками речи, меня не смущало. Хуже было бы, если бы они говорили все это искренне, от себя.
Писателей и мелкое начальство ждал у "дома Ростовых" вилобокий московский автобус, куда мы и погрузились вдвоём с подтянутым, спортивного вида фотокорреспондентом.
— Хохолков говорит: "Съезжу за б...", — доверительно шепнул мне на ухо Шпагин, дыша ароматическими веществами: мужским одеколоном, зубной пастой "Поморин", лосьоном после бритья.
Живой классик, действительно, сел в свой небольшой автомобиль, хряпнув дверцей, и укатил, вернувшись вскоре с довольно юной, томной и несколько вздрюченной девицей с полной грудью и капризными губами.
Я намертво держался, и оборвать мне руки было нечем — я не давал на себя показаний. А смутные подозрения, что называется, ещё не повод для знакомства.
(Рожон — наконечник копья. Потому и говорят: не лезь на рожон. И: какого рожна.)