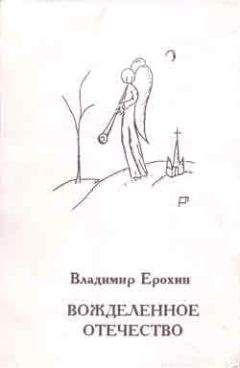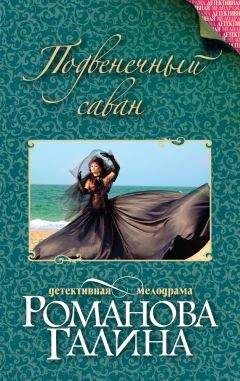ЗЯБЬ
Чем страшны колхозные крестьяне? Тем, что они — неверующие. Земледелец, не связанный с мистикой земли и неба, вырождается в машину, сельскохозяйственную машину. Даже язычество очеловечивало бы их. А ведь были когда-то — "крестьяне"...
Трактористка с рублеными фразами. Она говорила лозунгами из районной газеты, словно не было у неё живой души, словно заводная машина сидела передо мной, увешанная орденами. В сенцах, в красном углу, помещался вышитый крестиком по льняному полотну портрет Ленина в киоте с петухами. А в сельсовете мы с местной властью пили самогон, закусывая его нежной, как пастила, поросячьей печенью и солёными огурцами. Пройти к дому трактористки было не просто. Дали мне в качестве транспорта кирзовые сапоги. Контрастом был её захмелевший муж-скотник, выражавшийся хотя и матерно, но вполне гуманитарно. Серебристо сияли иконы в доме матери партработника Ивана Спиридоновича, приставленного ко мне.
Владимир Беляев написал "Тайну старой крепости". Он был рыхлый, рябой, с лицом, осыпающимся, как мешок крахмала, покрытым цветными пятнами. Публике в зале он рассказывал, как его в Ленинграде, в блокаду подобрал матрос — увидел билет Союза писателей: "Да это же автор "Старой крепости"!" — и поэтому спас — вместе с товарищами отнёс в близстоящий роддом (правда ли это, не знаю; Беляев цитировал выданную ему там справку: "Роженица Беляев В.П...."), а пограничникам — как он конвоировал бендеровку, решившую отдаться ему напоследок, и ещё — как ловили врага, спрятанного в ящике с дипломатической почтой: тыкали потихоньку ножичками, покуда он не заорал.
Бендеровке за откровенные показания обещали жизнь, как и её любовнику. Всех вместе потом расстреляли.
Она была необыкновенно красивой. Не стесняясь, села оправляться перед Беляевым — ей было все равно.
Обеспокоенный слухами главный редактор велел мне срочно раздобыть и дать в номер любую информацию о новостях писателей столицы.
Шмелём гуднул красивый бархатистый гудок.
Выслушав меня, партийно-литературный начальник Кобенко по-чёрному, по-окопному выругался матом и сказал:
— Мне бы, б..., его заботы!
Мне косвенно донесли, что в Московской писательской организации идёт скандал из-за каких-то политических дел и все с ума сходят.
(Вышел полуподпольный сборник "Метрополь".)
События для прессы срочно придумали — совещание литераторов-орденоносцев и что-то ещё.
Видрашку потом говорил Марку Соболю:
— На фоне этих засранцев из "Метрополя" мы выглядели как выполнившие правительственное задание.
И все мы понимали, что все эти заседания — понтяра, чтобы заткнуть "Метрополь".
— А кто вручал?
— Сам Брежнев.
— Когда мне дадут, мокнем.
— Теперь уж скоро.
И "Знак почёта" сановного поэта — моего земляка — был, конечно, пустой жестянкой, вроде собачьего номерка.
— Хорошие вещи не печатают, — пожаловался Дмитрий Жуков.
— А вы пишите плохие, — посоветовал я ему.
(Участие в любом движении даёт человеку энтузиазм. Причём какое именно это движение — совершенно не важно.)
Шабаш "русистов" в Знаменском соборе. Собрался весь паноптикум: Валентин Сорокин, Егор Исаев и Юрий Кузнецов с палочкой, Михаил Львов. Звали Русь к топору. Дмитрий Жуков сидел в алтаре, рассказывал, как после окончания Института военных переводчиков, с 1944 по 1960-й год служил... "неважно, где". Под завязку пришёл Илья Глазунов и подарил имениннику посмертную маску Достоевского — белый гипс на чёрной доске.
Там же была выставка Константина Васильева: дегенеративный Алёша Попович, белокурые бестии с мечами, колдуны с совами.
Хор пел: "Славься ты, славься, советский..." — или "русский"? — ах, да, ну, конечно, "наш русский народ ".
Как есть живая и мёртвая вода, так есть животворящий Святый Дух — лицо триипостасной Троицы, и есть мертвоносный дух язычества, магия и многобожие. Современные нехристианские националисты пытаются возродить именно этот мертвящий дух.
Важную роль в идеологии национал-большевизма сыграл граф Алексей Николаевич Толстой — автор очерка "Русские люди". И — Михаил Николаевич Алексеев.
— С вами говорит Герой социалистического труда, лауреат государственных премий, главный редактор журнала "Москва" Михаил Николаевич Алексеев, — сказал в трубку хозяин кабинета ласковым высоким голоском.
"Все здесь было .странно и мертвенно, словно вытащено из довоенных времён: лампа с точёным деревянным стояком, мраморное пресс-папье, тяжёлый телефон, пыльные бархатные шторы. Стол был расположен .так, что свет от окна падал справа. Хозяин сидел в пружинном вытертом кресле, обшитом древним дерматином, с фигурными шляпками гвоздей. В угол был задвинут гардероб с толстыми зеленоватыми стёклами. Хозяин, мягкий, улыбчатый, сложил руки калачиком. Ему было приятно, что я из "Литературной России". От магнитофона он опасливо отмахнулся:
— Ну её, эту технику. Мы лучше так побеседуем. А если что, я потом исправлю.
— Вашему журналу исполнилось десять лет...
Он был певец голосистого раздолья, автор романов с душистыми, ярыми, хмельными именами.
(— Какова твоя душа, таков и мир, — сказал мой ДРУГ- Он сказал об этом в связи с "Протоколами сионских мудрецов".
— Там выходит, что и февральскую революцию подстроили масоны.)
Они пытаются оживить мёртвое тело, гальванизируют труп. Отсюда и панно "Языческие музыканты" на алтарной преграде, и хор "Славься", особенно позорный после речи Сталина о русском народе.
— Все звезды, Володенька, одинаковы — пятиконечные, шестиконечные, — сказал мне отец Александр. — Мы не должны уподобляться бесноватым, живущим во гробах.
"Его нет здесь — Он воскрес."
Главным художником в "Литроссии" работал сын старого рабочего-партийца, найдёныш-еврей, родившийся в Китае, беззубый трубач.
А главный редактор был костромской, из крестьян, революцию понимал как народную стихию, волю партии — как концентрат народной мудрости. Когда-то он заведовал литературным отделом "Правды".
Михаил Иванович Глинка эмигрировал.
Переехав русскую границу, композитор повернулся на восток и трижды плюнул в сторону России.
Через несколько дней он умер в провинциальной немецкой гостинице.