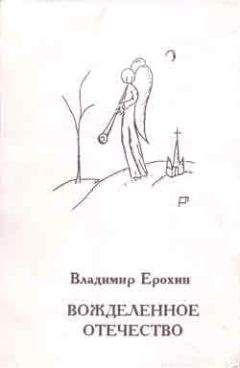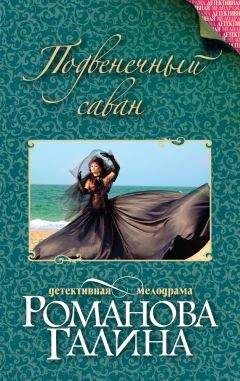Через несколько дней он умер в провинциальной немецкой гостинице.
Сыграем в иранское лото? — предложил Амиров. — На шаха — когда его скинут.
Амиров бравировал своим садизмом, как Караванов — реакционностью. Любимые выражения у него были: "оберпалач" и "у нас была надежда на Пол Пота".
— Галь, поди сюда!
Тётка оглаживала со всех сторон полученное из чистки зеленое шерстяное платье. Они вместе водили пальцем по ткани, видно, на месте пятна, всякий раз вырисовывая контур довольно-таки объёмистой лунообразной задницы, и я все думал: на что же это она так ловко села, что вся задница пропечаталась? Пятен не было, как они ни вертели платье, не веря, видно, своим глазам.
Хозяйка платья была крепко забронирована кремом-гримом, в седом напудренном парике под соболиной шапкой. А подруга — так, ничего. Подруга — и все тут.
Ещё мне подумалось, что обладание вещью доставляет, должно быть, тем, кого называют мещанами, — то есть практически всему населению Советского Союза, — эстетическую радость, сравнимую с наслаждением произведением искусства. Наверное, все они — тончайшие ценители вещей — как же иначе?
Припомнились и разговоры, слышанные в автобусе по дороге из Лианозова в Москву и обратно — все о вещах: платках пуховых, шерсти, коврах, ещё о чем-то, да о квартирах — какая кухня, да что в ней стоит.
"Господи! — думал я тогда, как и раньше. — На что Ты дал человеку язык? На что? Ведь на те пустяки, которые обсуждают они, не нужно языка. Хватило бы и мычания бессловесной твари. Ведь это что же такое, Господи! На что же дар-то Твой тратят? Ведь это же — как суп варить на ускорителе, как самогонку гнать через синтезатор..."
Но тут раздался мощный русский мат. Звучал он бодро и ядрёно, здоровый такой и трезвый утренний рабочий маток — не с целью кого обидеть или оскорбить и не в порыве чувств, а так — в простоте. Даже и секса не было в нем никакого, окромя терминологии, и это служило к чистейшему посрамлению Зигмунда Фрейда.
Я раньше думал, что матерщинники — стихийные фрейдисты. Сквернословят и сублимируют этим неудовлетворённые половые вожделения. Но нет — убедился — нет уже давно у пропитого рабочего человека особых там каких-то вожделений, не до них ему.
Помню, сидел я на лавочке в ожидании электрички и познакомился с двумя шофёрами — они из колхоза возвращались. Один говорит:
— Нас когда в колхоз посылали, все завидовали, говорили: "Счастливые! Целый день на воздухе, баб будете напяливать!" А с чего напяливать-то? С утра целый день не жрамши — пока в пять утра встанешь, машину разогреешь, сам в ней чуток посидишь, погреешься — и в поле, на весь день — капусту возить, А вечером так навозишься, что только до койки дойдёшь да, разденешься — и спать. Вот так целую неделю. А жена: "Пьяница! Алкоголик!"
Матерились двое рабочих в промасленных спецовках, чёрные, как жуки, — громко, не стесняясь присутствия женщин, а возможно, и детей, но через остановку, всем на радость, вышли — у автозаправочной станции.
Помню, ехали мы с сестрой в трамвае, а позади нас сидели три или четыре подростка, которые так чесали матом — причём всуе, без какой-либо причины, — что я, чуть обернувшись, сказал им:
— Господа! Мы находимся не в чисто мужской компании. Прошу вас выбирать выражения.
Они присмирели. И смогли обходиться без мата до самой своей остановки.
А ведь когда-то для образованной девушки услышать мат было не то чтобы экзотикой, а просто-таки невозможной вещью — существовал свой круг, да и люди, независимо от круга, считались с обстановкой и друг с другом — все были христиане и подданные государя.
У рабочих, я понимаю, трудные условия. Они вообще какие-то чумные. Завод есть завод — адише на земле. И они заслуживают сочувствия. Но речь сейчас не об этом. Я все думаю: неужели этот матерящийся, полупьяный класс — и есть самый сознательный, самый передовой в нашем обществе? Не вкралась ли здесь какая ошибка?
А теперь и страны такой — России — считай, нет, и живёт в ней неизвестно кто — какие-то все непонятные народы, которых и в помине не было тут век назад. Ясно только, что заполнили эти набежавшие невесть откуда племена тот страшный вакуум в культуре и социальном пространстве, который пробит был революцией и всосал в себя, не пощадив, все образованные слои российского общества, включая духовенство и купечество, а заодно и всех мало-мальски культурных крестьян. (Только покорные и уцелели.) Я ещё удивляюсь, как удалось собрать народ на Гитлера — ведь столько было побито своими же...
Хотя — какие там "свои"...
Сортир на Неглинке был закрыт, и бабы, все в одинаковых кожаных пальто и лисьих шапках, в невероятном количестве толпились поодаль от него, запрудив тротуар и стеснив остановку, — курили, скаля зубы, и договаривались о ценах на шмотье. Даже странно было, как могли вместить такую массу спекулянток недра сортира, хотя, судя по мужской его половине, и довольно просторного.
— Вот что, хватит дурака валять, — сказала Нора по телефону. — Я нашла тебе невесту.
— Какую ещё невесту?
— Сам увидишь. Я "ей много рассказывала о тебе, и она согласна. Сегодня вечером приходи. Бутылочку красного не забудь.
После работы я купил бутылку хереса и, раздираемый любопытством, отправился к Норе. Невеста, судя по звукам, сидела на кухне. В прихожей Нора шепнула мне, что у невесты есть собака — дог, однокомнатная квартира и мечта посвятить себя служению гению, поэтому я должен что-нибудь спеть.
Невеста восседала на кухонной табуретке, положив одну увесистую ляжку в сетчатом чулке на другую. Была она в сером жакете в мелкую клеточку и такой же юбке. Оглядев меня сквозь тёмные очки, она продолжила прерванное занятие — а занималась она тем, что набивала трубку. Трубка была короткая, толстая, вишнёвого дерева, и набивала её невеста табаком "Нептун", ловко уминая его большим пальцем с крепко наманикюренным ногтем. Цвет лака для ногтей, трубки и лакированных туфель, а также сумочки, небрежно висящей через плечо (откуда и был извлечён табак вместе с пудреницей и трубкой), совпадал — был благородным темно-вишнёвым.
Говорила невеста басом.
Выпили по рюмочке. Нора сказала, что, когда она выпьет, ей хочется курить.
— Мне курить всегда хочется, — пророкотала невеста, посапывая трубкой...
...Грязь, кругом сплошная строительная грязь. Все строят, строят и никак не построят свой паршивый, занудный коммунизм, о котором столько мечтали и болтали. Все копают и копают, как будто роют подкоп под себя, как будто хотят зарыться в эту грязь и больше из неё не вылезать. И процветают лишь пивбары. И выходят из них дегенераты в фуфайках и спецовках, с расстёгнутыми ширинками, непонятно, какого роду-племени, что-то смутное, с черноватыми подтёками, с татуировкой на руках, выворачивающее карманы вскладчину.