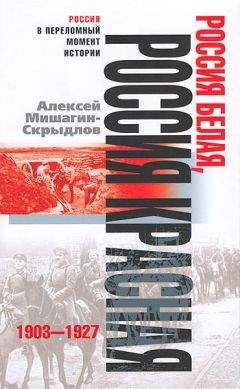Ознакомительная версия.
Но жизнь в городе с каждым днем становилась все труднее. Боясь оставлять матушку одну, я перебрался в гостиницу «Россия». Большевики постоянно патрулировали улицы, все время устраивали обыски, главным образом у живших в городе членов императорской фамилии. Великая княгиня Мария Павловна, мать великого князя Кирилла Владимировича и тетка (по браку) царя, несмотря на возраст, была вынуждена простоять целых два часа, пока обыскивали ее квартиру. По вечерам на улицах грабили, и добыча грабителей бывала неплохой, потому что люди, опасаясь оставлять деньги и драгоценности дома, носили их с собой. Некоторые, в том числе я, прятали кольца и другие небольшие украшения во рту. Но если их начинали расспрашивать, искаженная дикция выдавала тайник.
Большевизм затопил почти всю страну, но в июне повсюду выступили белые армии. В Кисловодске большевики опубликовали список заложников из девяноста девяти имен; сначала они арестовали нескольких из них, самых важных в их глазах. Помню, среди них были граф Бобринский, генерал Радко-Дмитриев, генерал Рузский (командующий фронтом во время войны); вообще все бывшие генералы, министры и сенаторы, жившие в городе, в частности экс-министр юстиции Добровольский. Моя семья была очень дружна с его семьей, и нас потряс его арест.
Матушка, вспомнив, что я неоднократно имел дело с комиссаром Ткаченко в связи с организацией концертов, решила, что его, возможно, удастся убедить пощадить бывшего министра. Не то чтобы мы надеялись на освобождение нашего друга; но, может быть, удалось хотя бы облегчить условия его содержания и получить новости о нем. Я отправился к Ткаченко, который принял меня любезно, выслушал просьбу, отметив мою личную незаинтересованность. Однако он отказался что бы то ни было предпринять, поскольку, по его словам, все, что касалось уже арестованных заложников, от него больше никоим образом не зависело. Помочь мне мог только комиссар Захаренко, к которому я мог обратиться от имени Ткаченко.
Я поспешил в «Гранд-отель», где, по словам Ткаченко, его коллега жил в номере шестьдесят два. Я шел по коридору, когда увидел, что дверь номера открывается и из него выходит комиссар. Это был мрачного и сурового вида человек. Я подошел к нему и сказал, что пришел справиться о заложнике Добровольском, семью которого знаю лично. Комиссар сильно удивился и моему вопросу, и свободе моего поведения; очевидно, избыток непринужденности был вызван моим желанием придать себе смелости.
– Как вас зовут? – вместо ответа, спросил меня Захаренко.
– Я – артист Скрыдлов.
– А! – протянул он. – И кто вас прислал ко мне?
– Комиссар Ткаченко.
Захаренко посмотрел на меня, потом произнес:
– Слишком поздно. Из-за нападения со стороны белых, которому мы подверглись, все арестованные заложники расстреляны.
И Захаренко отпустил меня.
Расстроенный, я вернулся к матери, сообщить ей эту печальную новость.
Но вечером нас навестила г-жа Добровольская, жена экс-министра. Наша подруга имела надежную информацию: ее муж еще жив, его казнь отсрочили. В Кисловодске ожидали приезда одной из печально знаменитых чрезвычайных комиссий, задачей которых был арест заложников и расстрел в первую очередь обладателей аристократических фамилий. Пока она не прибыла, ничего не было потеряно ни для уже арестованных заложников, ни для тех дворян, которые, сами того не зная, уже были включены в списки и могли быть арестованы в любой момент. Г-жа Добровольская, узнав о моих дневных демаршах, умоляла меня возобновить их. К тому же ее заверили, что дополнительный список заложников находится в руках Ткаченко. Я вновь отправился к комиссару, как выполняя просьбу г-жи Добровольской, так и, признаюсь, озабоченный собственной судьбой: не включен ли я сам в список подлежащих аресту?
Увидев меня, Ткаченко не стал меня выпроваживать. Я уже говорил, что, зная меня как артиста, он всегда относился ко мне если не доброжелательно, то, по крайней мере, беспристрастно. И моя фамилия, я хочу сказать: фамилия моего отца, никогда не была в его глазах фамилией ультрамонархиста. Было очевидно, что этот человек, искренний в своих убеждениях и бескорыстный, испытывал к аристократам чисто интеллектуальную неприязнь: его ненависть распространялась больше на идеи и институты, нежели на конкретных лиц. Всякий раз, когда я приходил к нему за разрешением на организацию концерта, он разговаривал со мной о музыке и искусстве с явным намерением произвести впечатление своими познаниями в этой области и исправить то мнение о большевиках, которое могло у меня сформироваться. При этом он демонстрировал манеры, противоположные принятым в дворянском обществе, что считалось присущим, возможно не без оснований, вообще всем комиссарам.
Он сказал, что понимает мое волнение относительно судьбы бывшего министра, но дал понять, что ничем не может помочь человеку, уже арестованному и приговоренному к смерти.
– А я?! – воскликнул я. – Я тоже в списке?
Прежде чем ответить, Ткаченко попросил меня хранить в строжайшем секрете все, что он мне скажет. Я обещал. Скоро вы поймете, почему сейчас я считаю свое обещание утратившим силу.
– Вас нет в списке, – ответил он мне. – Я собственноручно переписал его целиком, чтобы завтра представить Чрезвычайной комиссии. Вашей фамилии в списке нет.
Очевидно, вид у меня был не до конца успокоенный, и Ткаченко это заметил.
– Вы не удовлетворены? – спросил он.
– Коль скоро я обещал вам хранить молчание, – ответил я, – почему бы вам не показать мне этот список?
В тот момент я не понимал дерзости своей просьбы. Сейчас, вспоминая эту сцену, я не могу ей не поразиться. Как бы то ни было, через секунду пресловутый список был у меня перед глазами. Я убедился, что моей фамилии в нем действительно нет. Но тех, чьи фамилии в нем фигурировали, я отлично знал.
Меня особенно потрясли девять фамилий молодых офицеров, моих друзей или хороших знакомых; среди них были светлейший князь Голицын (из младшей линии рода), барон Жомини, паж Наумов, капитан Христофор Дерфельден. (Прошу читателя поверить, что эти имена я привожу не для того, чтобы выставить себя в выгодном свете, поскольку мне повезло добиться их помилования, а в качестве доказательства правдивости этого невероятного случая.)
Читая имена друзей, обреченных на гибель, я, не подумав, вскрикнул. Какую пользу делу революции могла принести казнь этих молодых людей, которые, как я знал, сами по себе были совершенно безобидны и виновны лишь в том, что носили фамилии, которые не выбирали? Так получилось, что, уже долго ведя с Ткаченко доверительную беседу, я немного забылся. Испытания предыдущих недель и пережитые волнения расстроили мои нервы; узнав, что сам я не приговорен к смерти, я волновался за обреченных. Я вдохновлялся дружбой, надеждой, сыграло свою роль и некоторое непонимание ситуации. Во всяком случае, я заговорил дерзко, что, в сочетании с моей молодостью, очевидно, понравилось Ткаченко. Сначала он хотел заставить меня замолчать, когда понял, к чему я клоню; но теперь молчал и слушал меня. Возможно, он вспоминал множество убийств, среди которых жил, быть может, спрашивал себя, так ли они нужны для торжества его идей. Я взывал к его разуму, к его великодушию, просил употребить власть для спасения девяти жизней.
Ознакомительная версия.