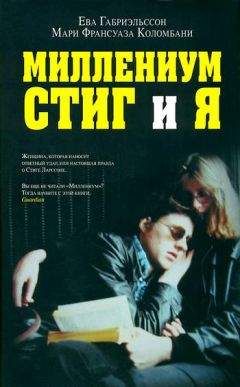«Вероятно, мы оба не понимали одну существенную вещь: все, что происходило, было для нас обоих предысторией нашей жизни: его – очень короткой, моей – очень длинной. Дыхание искусства еще не обуглило, не преобразило эти два существования, это должен был быть светлый легкий предрассветный час. Но будущее, которое, как известно, бросает свою тень задолго перед тем, как войти, стучало в окно, пряталось за фонарями, пересекало сны и пугало страшным бодлеровским Парижем, который притаился где-то рядом. И все божественное в Модильяни только искрилось сквозь какой-то мрак. Он был совсем не похож ни на кого на свете. Голос его как-то навсегда остался в памяти. Я знала его нищим, и было непонятно, чем он живет. Как художник он не имел и тени признания… Беден был так, что в Люксембургском саду мы сидели всегда на скамейке, а не на платных стульях, как было принято. Он вообще не жаловался ни на совершенно явную нужду, ни на столь же явное непризнание. Только один раз в 1911 году он сказал, что прошлой зимой ему было так плохо, что он даже не мог думать о самом ему дорогом».
Когда на Европу обрушилась Первая мировая война, Амедео находился в расцвете своего таланта. Писал много – в том числе и под немецкими бомбами, падавшими на Париж. В начале декабря 1917 года друзья помогли ему организовать тот самый «скандальный» вернисаж в галерее Берты Вейль. Закрыли выставку ворвавшиеся с улицы полицейские через полчаса после открытия: настолько сильно шокировали публику «обнаженные», созданные Моди. Каноны и академизм не были направлениями его творчества. Он преодолел их. И их же этим возвысил.
Последний месяц его жизни – январь 1920-го. Модильяни не было еще тридцати шести. Биографы называют три причины его смерти: туберкулез, алкоголь и гашиш. Есть и четвертая: сама жизнь. Жанна Эбютерн, гражданская его жена, выбросилась из окна на другой день после его смерти. Маленькую дочь Жанну удочерила сестра Модильяни. Жанна оказалась впоследствии страстным и непредвзятым автором книги об отце «Модильяни без прикрас». О человеке, который был и остается великим и легендарным художником, последним истинным представителем богемы и скандальным героем многочисленных монографий, биографий, воспоминаний, очерков, статей и еще чего-то такого, на что обречен любой великий человек после своей смерти.
«Поэтика видений» – наследие Модильяни для нас, живущих уже в новом веке. В чем-то похожей на старую, но в чем-то совсем иной обстановке. В иной «мистерии подсознания».
• Даниил Иванович Хармс (настоящая фамилия Ювачев, по документам Ювачев-Хармс; 17 (30) декабря 1905, Санкт-Петербург – 2 февраля 1942, Ленинград) – русский писатель и поэт.
• Один из создателей абсурдистского направления в русской литературе.
• Самая трагическая неудача писателя – смерть в тюремной психиатрической больнице.
Знающие люди говорят, что если бы Хармс решил отпраздновать свое столетие, то он бы отпраздновал его, сидя на шкафу. Почему на шкафу? Просто потому, со шкафа видней, что вокруг происходит.
И свой юбилей тоже было бы видней. Однако он никакой юбилей никогда не отпразднует: умер Хармс в 1942-м в ледяной блокадной тюремной психиатрической больнице. Зато мы взяли и отпраздновали. И довольно-таки широко и в чем-то даже театрально. За что отдельное спасибо всем тем, кто любит и чтит величайшего отечественного абсурдиста.
Свой гениальный рассказ «Письмо» Даниил Иванович Хармс (Шармс – Шардамс – Школа клоунов – а от рождения Ювачев) закончил такими словами:
«Я сразу, как увидел твое письмо, так и решил, что ты опять женился. Ну, думаю, это хорошо, что ты опять женился и написал мне об этом письмо. Напиши мне теперь, кто твоя новая жена и как это все вышло. Передай привет твоей новой жене».
Датировано «Письмо» 23 сентября и октября 1933 года и в рукописи названия не имеет. Герои рассказа, естественно, придуманы. Они одновременно смешны и философичны, невероятно абсурдны и ни в коей мере не могут быть причислены к советским людям, которые (все и без всякого исключения) имели своей целью жениться так, чтобы удобней было строить для начала социализм, а в конечном счете и коммунизм. Тем не менее крупнейшие шармсоведы полагают, что «Письмо» носит автобиографический характер. С учетом того, что вряд ли в каком-либо из произведений Даниила Ивановича можно обнаружить что-либо автобиографическое. Парадокс очевидный.
Еще очевидней «парадокс наличия» прямой связи данного «Письма» с жизнью писателя.
Все дело в том, что любовный роман Даниила Ивановича прервался в 1933 году. Его бросила женщина. Она была актриса, красивая и молодая. Ей хотелось богатства, славы, денег, положения в обществе, счастья, семьи, квартиры, детей. Она умела плавать в бассейне, носить красивые платья, белье, чулки и туфли, подводить брови. Она и танцевала очень хорошо. И она любила Даниила Ивановича. Очень любила. Но тем не менее бросила его и уехала из тогдашнего Ленинграда в Москву. А Даниил Иванович остался в Ленинграде и отреагировал на ее отъезд своим письмом к ней. Осенью 1933 года он написал ей:
«…не то, чтобы вы стали частью того, что раньше было частью меня самого, если бы я не был сам той частицей, которая в свою очередь была частью… Простите, мысль довольно сложная…»
Вот так он ей и написал, этой женщине, которую звали Клавдия Васильевна Пугачева. Она же сказала Даниилу Ивановичу перед своим отъездом как какому-то пошляку или мало чем примечательному обывателю:
«Прощайте, я уезжаю в Москву и там, возможно, буду с кем-нибудь близка».
Опустим здесь свидетельства тех, с кем, наверное, была близка Клавдия Васильевна в Москве.
Хармса эти свидетельства тоже мало занимали. Ведь теперь, оставшись один, он мог писать еще больше, чем в присутствии любимой женщины. Что он и стал делать. И очень много написал.
В некоторых его произведениях той поры и в тех, что были созданы раньше и позже, есть отголоски того, что думал Даниил Иванович о женщинах и о любви. Но не так, чтобы уж совсем прямо и откровенно. Скорее, в его, «хармсовском» смысле. И подавал он это весьма емко и забавно. Например, рассказ «Лекция» начинается так:
«Пушков сказал:
– Женщина – это станок любви.
И тут же получил по морде».
А в рассказе «Помеха» есть нечто совсем иное:
«– У меня очень толстые ноги, – сказала Ирина. – А в бедрах я очень широкая.
– Покажите, – сказал Пронин.
– Нельзя, – сказала Ирина. – Я без панталон».
Дальнейшие разночтения Хармса с советской властью в понимании жизни, любви и всего остального оказались настолько существенными, что не позволили ему ни творить, ни жить. Ему не простили его яркой одаренности. Его убили за то, что он, кроме всего смешного и забавного, имел смелость в одном из писем к Клавдии Васильевне написать: